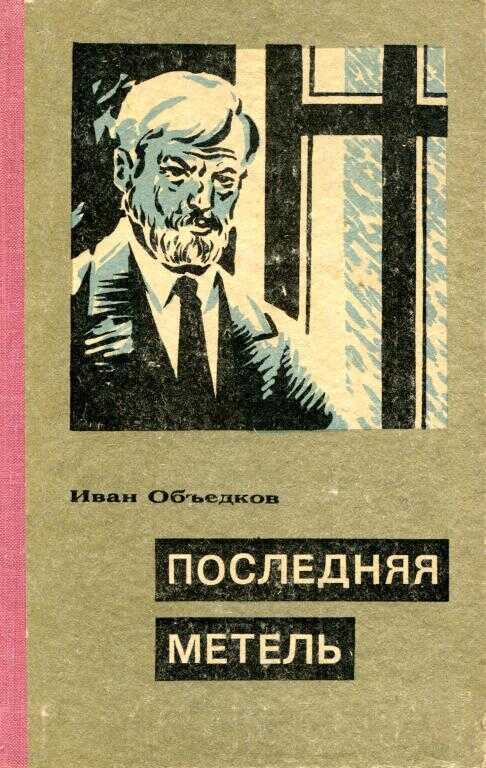Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В сборнике повестей и рассказов кировского прозаика Ивана Объедкова отражены события Великой Отечественной войны, жизнь колхозной деревни и нравственный мир наших современников.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Фаддеевич Объедков»: