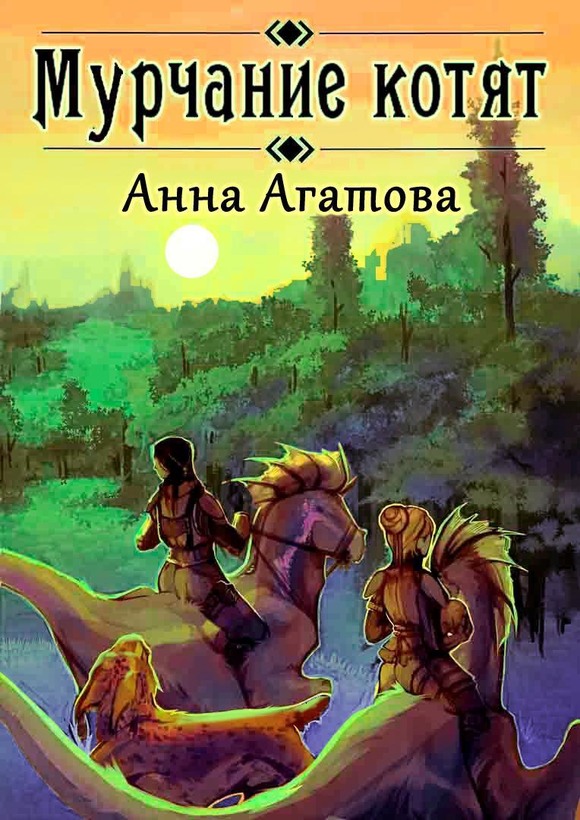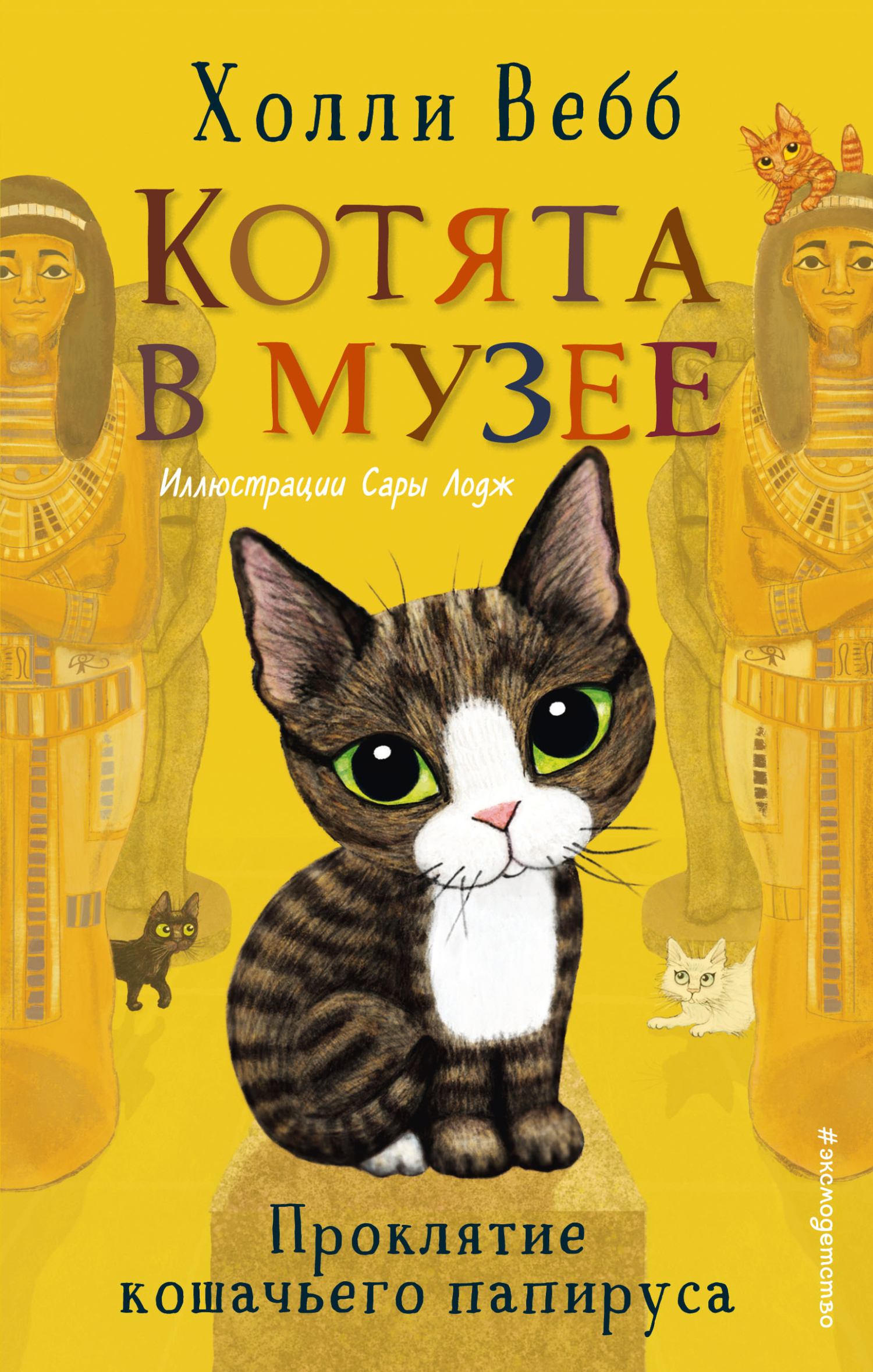Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Сбылась мечта – сестры Косаревы покупают дом! Точнее, его половину. Впуская в новое жилье любимого кота Огарка, женщины надеются на безоблачную счастливую жизнь. Но все идет наперекосяк, когда ночью в дом врывается девушка, пытаясь их ограбить, а потом кажется, что кто-то наблюдает за ними из-за стены. Что творится на другой стороне дома – не знает никто… кроме кота. Кот, конечно, знает всё.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юлия Александровна Лавряшина»: