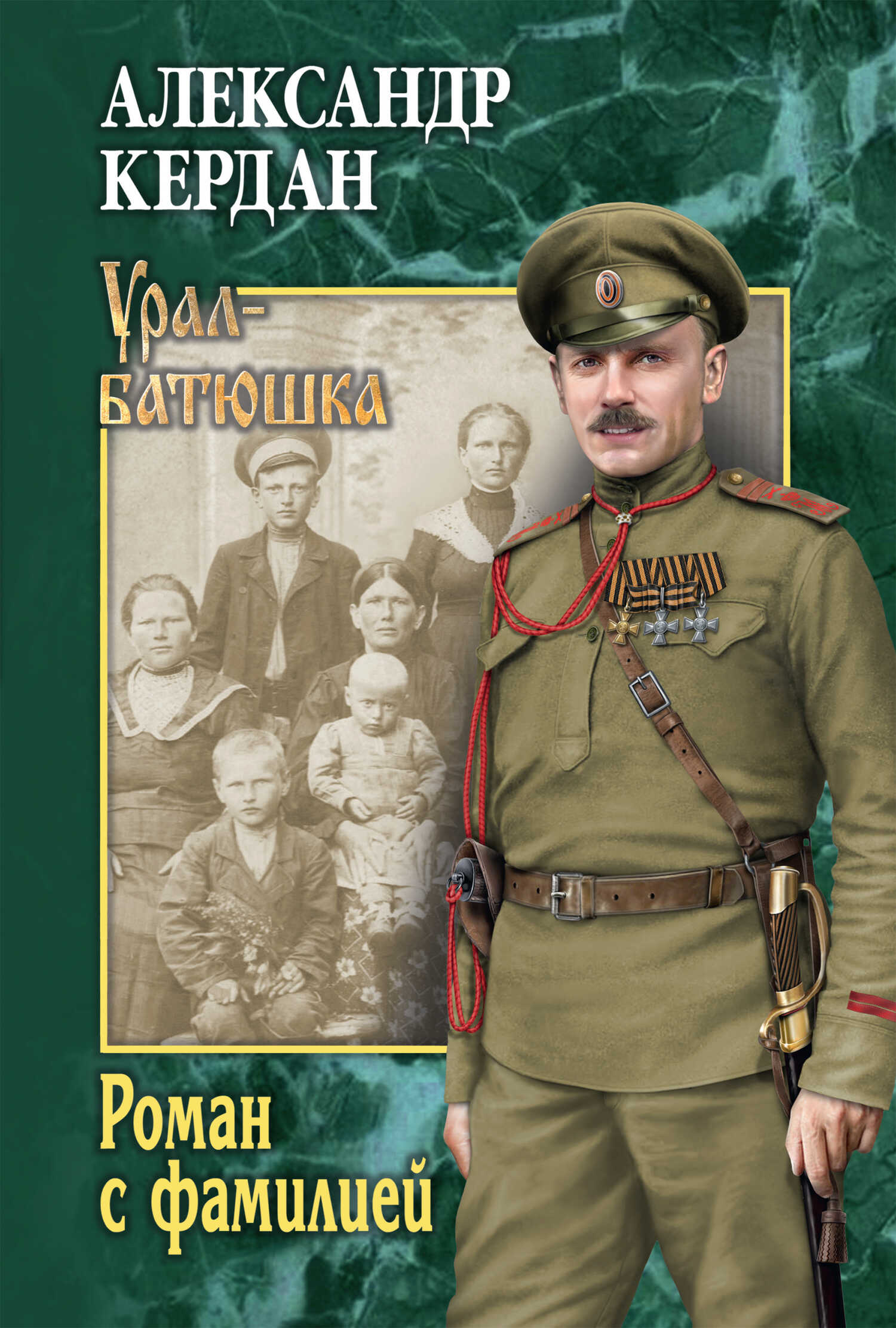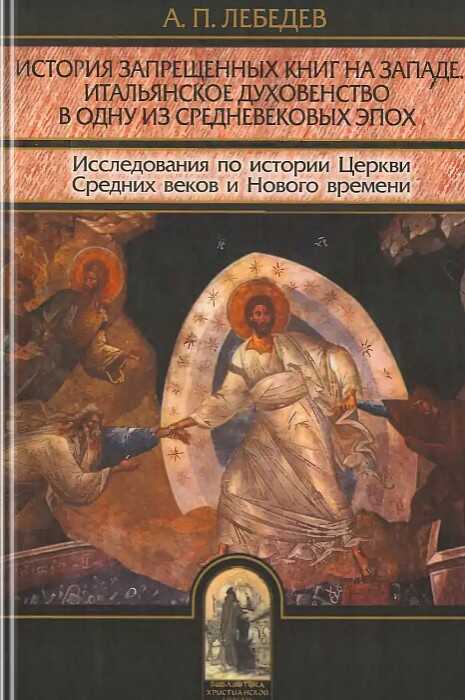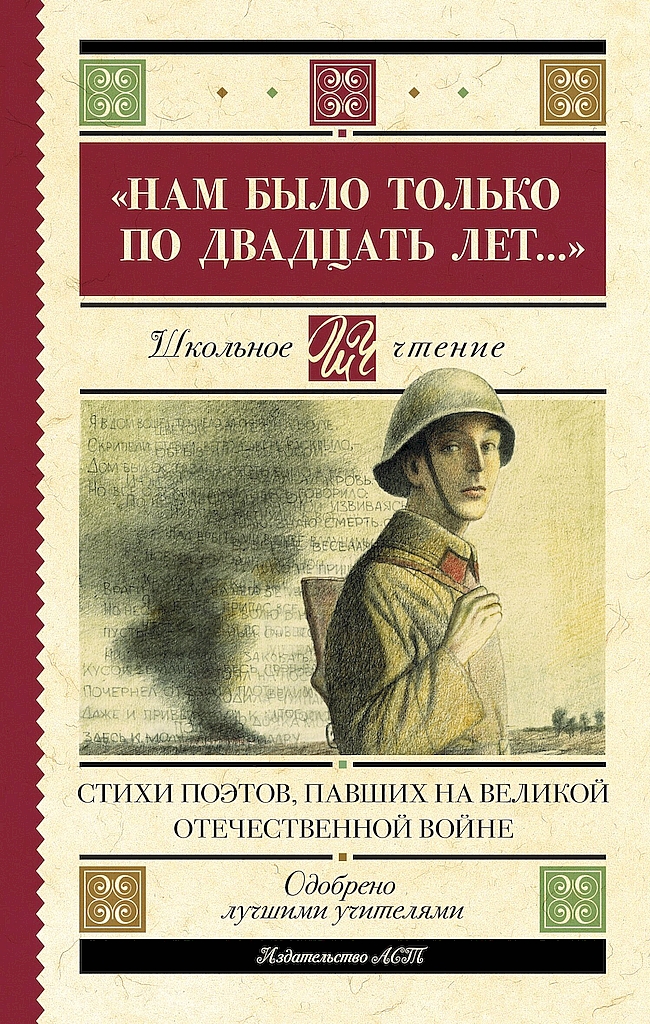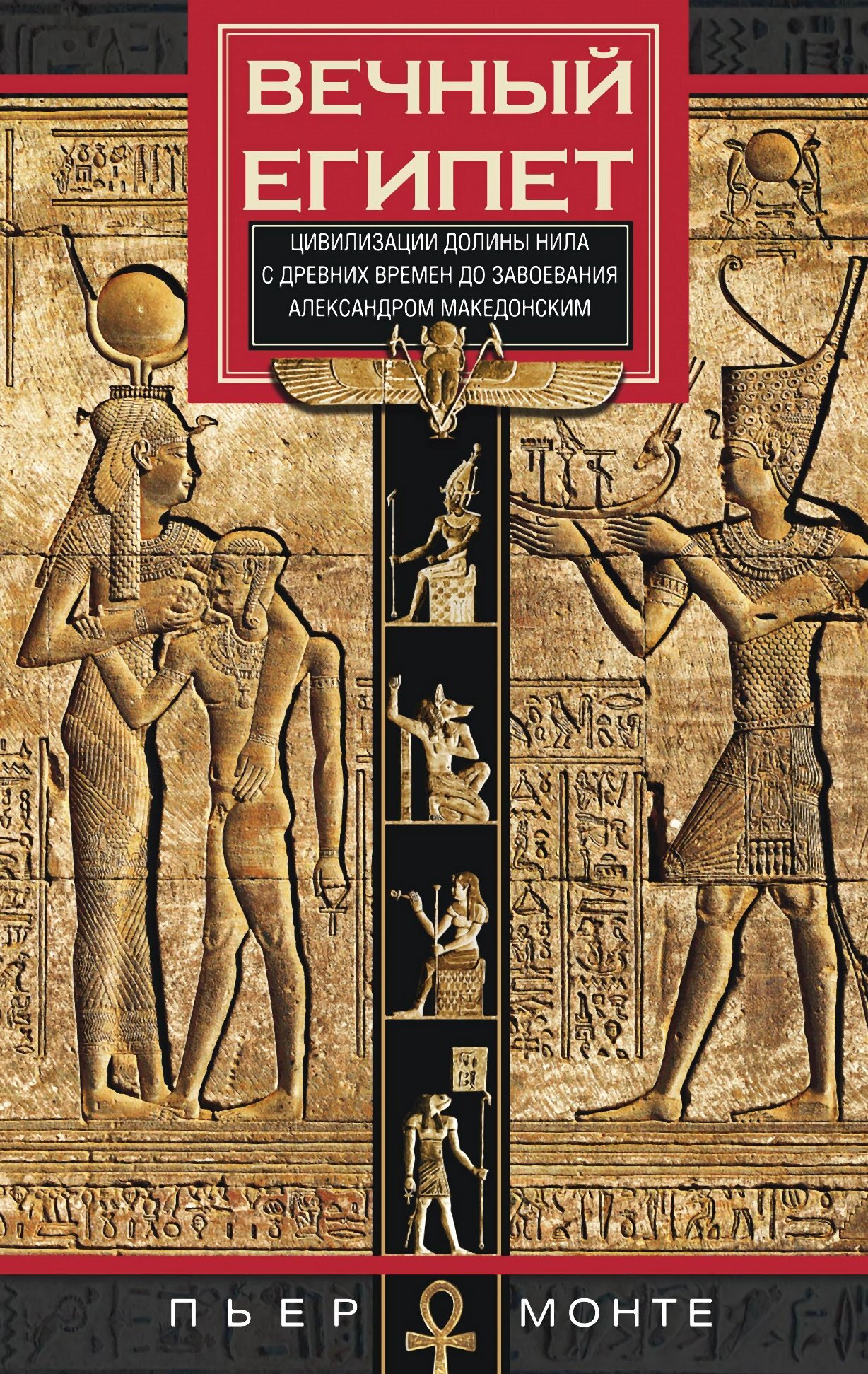Шрифт:
Закладка:
Но я уже и сам протягивал ему снаряжённый бандолет.
Снова грохнул выстрел, и опять радостно вскричал дядька Василь:
– А это вам, проклятущие, за Оксаночку нашу, за дивчинку невинную!
Он стрелял снова и снова, при каждом выстреле приговаривая:
– За Сечь Запорожскую! За погибших братов-казаков! Давай, Мыкола, не спи!
Поляки отступили к плетню, залегли за ним и отвечали на выстрелы дядьки Василя беспорядочной пальбой. Одна из выпущенных ими пуль оцарапала дядьке щёку, полилась кровь, но он не обращал на царапину никакого внимания.
Я едва успевал заряжать самопалы.
– Не высовывайся, Мыкола! А то пулю словишь! Пуля не дивчина: поцелует, и конец казаку… – Сам дядька Василь, не пригибаясь и точно забыв о своей хромоте, сновал от оконца к оконцу, стрелял, сыпал в адрес врагов проклятиями, одно заковыристее другого: – Чтоб у вас, собачьи сыны, зенки повылазили, чтоб в гузне у вас потроха перевернулись! Чтобы вам, подохнув на Украйне, лежать безо всякого погребения! Чтобы подлые души ваши лысый дидька в аду жарил на сковороде до второго пришествия! – С каждым метким выстрелом он распалялся всё больше, и глаза у него пылали яростным огнём, точно у ведьмака.
Стрельба со стороны ляхов вдруг прекратилась.
Они выкатили из конюшни воз, накидали охапками сено и, прячась за ним, покатили воз к хате.
– Эко что удумали, чёртовы ляхи, – внезапно посуровел дядька Василь. – Изжарить нас хотят опредь упомянутых чертей!
Он поглядел на меня ласково и вдруг обратился так, как обычно обращался к моему батьке:
– Ну, вот что, пан-брат Мыкола! Шутки прочь! Тикать тебе надо! Погляди, там за печью у меня лаз… Ты в него полезай, он тебя выведет к огородам…
– Я вас не брошу, дядька Василь! Я с вами… – отчаянно зароптал я.
– Некогда, Мыкола, пререкаться! – оборвал он. – Слушай, что я тебе говорю, повторять не стану… В бурьяне дождёшься, когда ляхи уйдут, и подавайся в Чигирин, к Хмелю… Встретишь там батьку своего, обскажи ему, что казак Василь Костырка… Да ладно, ничего не говори! Ступай, казаче, и живи долго!
Он помог отворить тяжёлую заслонку лаза, втолкнул меня в подземелье и снова затворил лаз.
Темнота и запахи сырой земли окружили меня, напомнив детские россказни про упырей с кровавыми глазами и встающих из могил синюшных мертвяков, охочих до живой плоти. Но не страх перед нечистью, а молодое желание жить погнало меня вперёд.
Я долго полз по узкому ходу. Останавливаясь передохнуть, думал в своё оправдание: «Дядька Василь с одной рукой здесь бы точно не пролез…»
Ход вывел меня в густые заросли бурьяна за огородом.
Выстрелов уже не было. Со стороны хутора тянуло дымом. Трещали на огне стропила и балки, разбрасывая ввысь снопы искр.
Целую вечность я лежал в терпко пахнущем бурьяне, не шевелясь и прислушиваясь. Из своего укрытия выбрался только тогда, когда в небе надо мной замаячили тусклые звёзды.
От нашего хутора осталось несколько печных труб и обгорелый остов ветряка на холме… Всё, что было родным, стало прахом: дядька Василь, родительская хата, батькин подарок – бандура…
На этом пепелище я навсегда попрощался с детством.
Уже иным человеком побрёл я на огород.
В округе совсем стемнело, но я сразу отыскал тела матери и Оксаны.
С последней надеждой припал к матери: вдруг сердце у неё стучит. Но сердце не билось. Я прижался к стылому, точно каменному, тельцу Оксаны. Обнимая своих родных, я не чувствовал страха, который прежде вызывали во мне даже мысли о мертвых.
Мне хотелось заплакать, но слёз не было. Сердце моё тоже окаменело. Я долго сидел над ними, глядя в темноту, не зная, что скажу батьке, когда он спросит: «Как же ты, сынку, мать и сестру не уберёг?»
Лопатой, найденной между грядок, тут же вырыл могилу. Стащил в неё тела матери и сестры, засыпал землёй.
«Когда я вырасту, я убью его…» – зазвучала во мне вдруг клятва Юрася Хмельницкого.
– Когда я вырасту, я убью тебя, пан Немирич! – негромко, но твёрдо произнёс я.
5
Мой долгий и трудный путь в Чигирин ни в какое сравнение не шёл с тем первым путешествием, которое я совершил когда-то вместе с батькой и дядькой Василём.
Передвигался я только ночью, сторонясь шляхов. Шагал напрямик через пустынные поля и перелески, вздрагивая от каждого шороха.
Ночи стояли дивные. На тёмном бархате неба мерцали звёзды, точно золотые монеты. Лодочка месяца плыла, отливая серебром. В ней – черноглазая и чернобровая дивчина, сама царевна-ночь!
Все эти красоты, которыми так хорошо любоваться, выйдя из уютной хаты во двор, в диком поле вызывали совсем иные, тревожные чувства.
Страх туманил моё сознание, но он же и гнал вперёд. Звёзды казались хищными волчьими глазами, следящими из темноты, месяц представлялся турецким ятаганом, готовым вонзиться в спину, как только отвернусь…
Я шёл, бормоча Иисусову молитву, пил из попадавшихся на пути ручейков, ел репу, захваченную с нашего огорода, жевал зёрна одичалой пшеницы. Когда же начинал брезжить на востоке синий свет и тьма откатывалась на запад, останавливался, искал место, где схорониться до следующих сумерек.
Обычно моим укрытием служили дубовые перелески или заросли вербы. Иногда мне везло, и я находил убежище в стоге сена.
О чём я только не передумал в эти долгие ночи и дни! О том, как встречусь с батькой и с гетманом Хмельницким, как запишут меня в казаки и буду воевать с ляхами…
Я видел снова и снова, как молодой драгун протыкает пикой Оксанку, как самодовольный Немирич сжигает наш хутор…
Несколько раз из своих укрытий я наблюдал за проезжающими польскими конными разъездами. Однажды мимо проскакал большой отряд крылатых гусар, а ночью я едва не наткнулся на польскую заставу. Жолнеры жгли костёр и громко говорили меж собой. Я вовремя заметил их и обогнул вражеский пост…
Как-то в сером утреннем свете я увидел село. Оно словно вымерло. Ни один петух не загорланил, приветствуя зарю, не перебрехивались собаки. Разглядывая крыши хат и церковную колокольню, я узнал место: тут мы проезжали, и батька заплатил арендатору. Но ни одного жителя за целый день так и не увидел.
Ночью я пошёл в село, надеясь найти что-то съестное. И понял, почему никого нет. Подле церкви на площади стояли виселицы. На них раскачивались тела. Церковь была опалена огнём, а перед ней свалены в большую кучу люди.
Запах смерти погнал меня прочь.
На следующий день я подошёл к переправе у Кременчуга. Паромом распоряжался бывший арендатор Шлома. Он