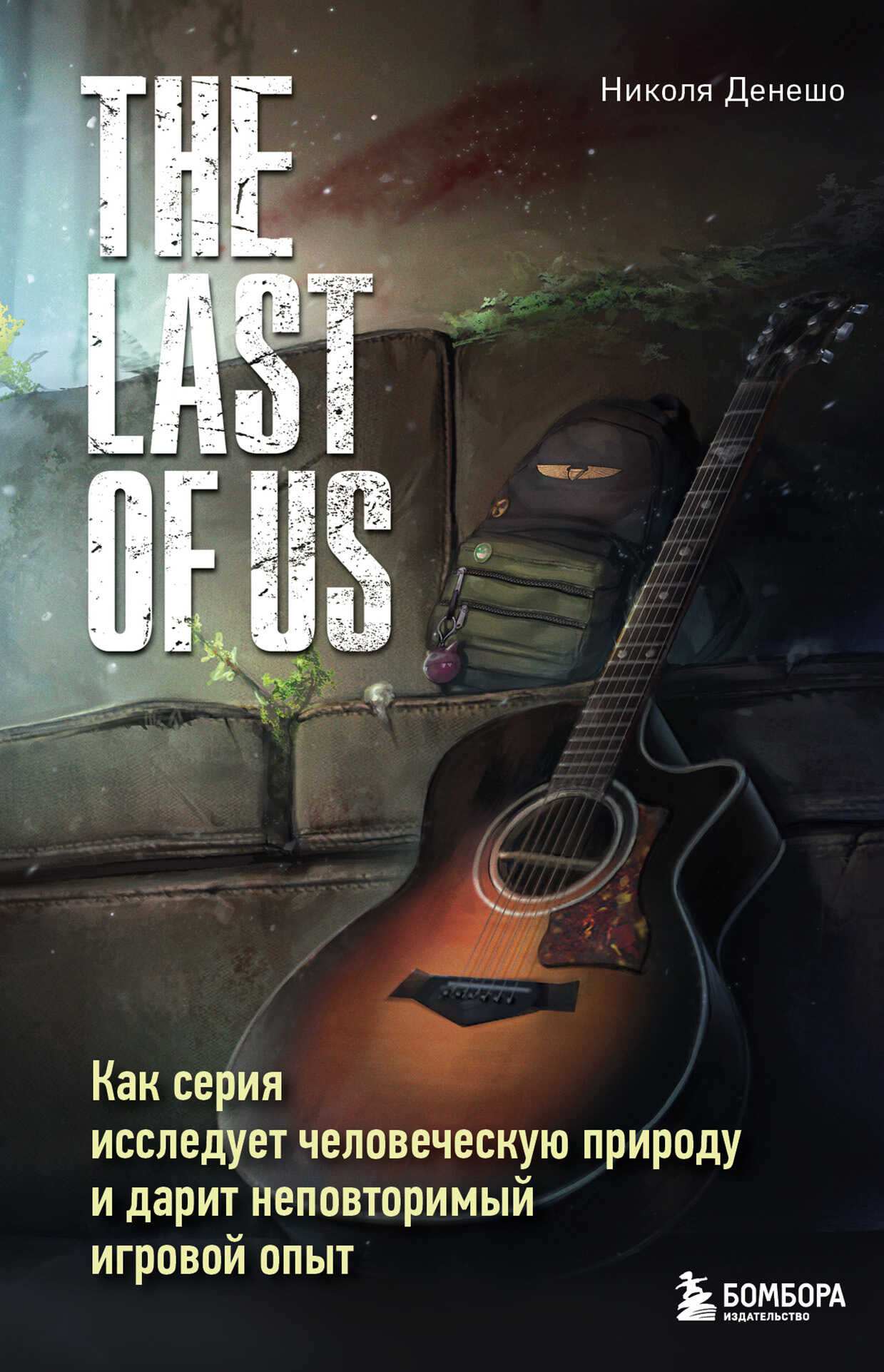Шрифт:
Закладка:
История Тюдоров – это история власти и любви. Основатель династии, король Генрих VII, использовал легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, чтобы обосновать свои притязания на корону. Генрих VIII считал куртуазную любовь оправданием своей бурной брачной жизни. Когда на престол взойдет его дочь Елизавета, куртуазная любовь сыграет особую роль в ее женской монархии.Исследовательница Сара Гриствуд рассказывает историю о том, как любили Тюдоры – самая знаменитая династия Средневековья. Осада Замка любви и рыцарские турниры, кодекс куртуазной любви и романтическая традиция о Гвиневре – все это легло в основу власти Тюдоров и пронизало эпоху, в которую они жили. Это эпоха, которую определяли пылкие сердца принцев и поэтов, фрейлин и королев.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
![Тюдоры. Любовь и Власть. Как любовь создала и привела к закату самую знаменитую династию Средневековья [litres] - Сара Гриствуд](/uploads/posts/books/17749/17749.jpg)