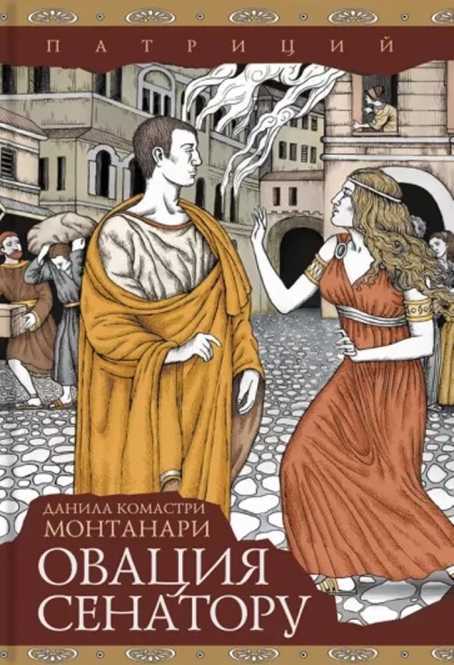Шрифт:
Закладка:
«Рим, проклятый город», вторая часть грандиозной биографии Юлия Цезаря, начнется с изгнания, а закончится галльским нашествием. Между этими событиями пройдут два десятилетия бурной жизни, полной политических, военных и личных маневров и интриг. Цезарь попадет в плен к пиратам (и обретет свободу), посетит Родос (и научится истинному красноречию), вернется на родину (и примет участие в подавлении восстания Спартака), войдет в Сенат, станет свидетелем заговора Катилины, заключит тройственный союз, который позволит ему возвыситься, подчинит лузитан, обзаведется друзьями, покровителями и новыми врагами. Тем временем Помпей, его союзник, а затем смертельный враг, коварством одолеет Сертория в Испании, разгромит пиратов, затем, мечтая уподобиться Александру Великому, отправится на Восток и триумфально возвратится в Рим. А где-то в Египте родится и подрастет Клеопатра, но пока еще никто не придает этому значения… Сантьяго Постегильо, дотошный исследователь и энергичный рассказчик, автор бестселлеров, выходящих общим тиражом более 4,5 миллиона экземпляров, продолжает свой колоссальный проект. Вторая книга цикла – приключенческая сага, политический триллер и батальная панорама. Здесь Юлий Цезарь добьется власти и узнает, какова ее истинная цена, когда Рим – проклятый Рим, который не ведет переговоров и не щадит никого, – взамен потребует то единственное, чем Цезарь не в силах пожертвовать… Впервые на русском!