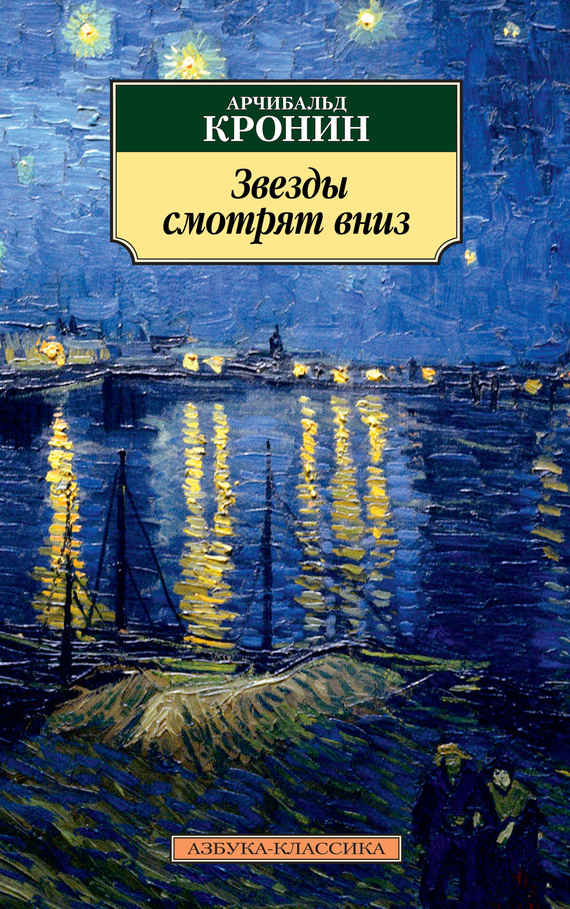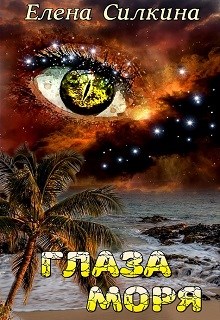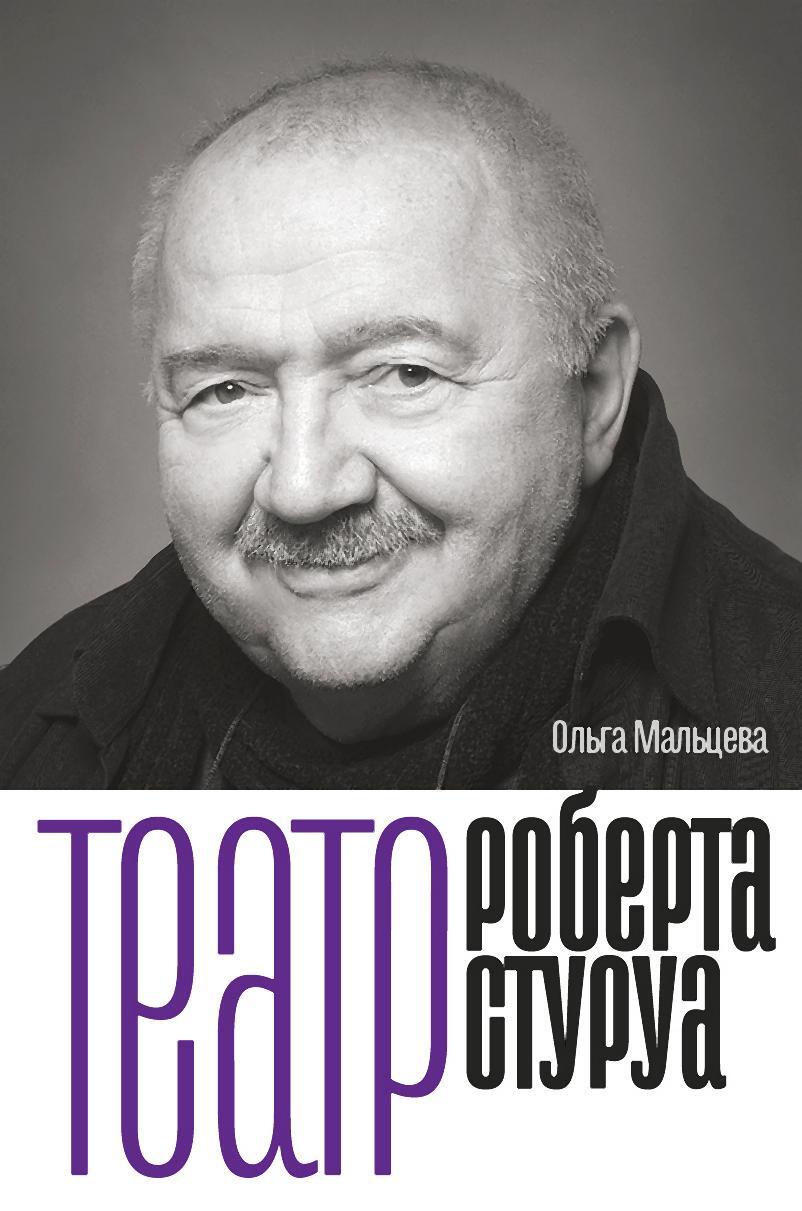Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Один из лучших романов классика английской литературы! «Звезды смотрят вниз» – это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто поддался искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о борьбе за справедливость, о жадности и жестокости, порождающих смерть и горе. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке. А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Арчибальд Джозеф Кронин»: