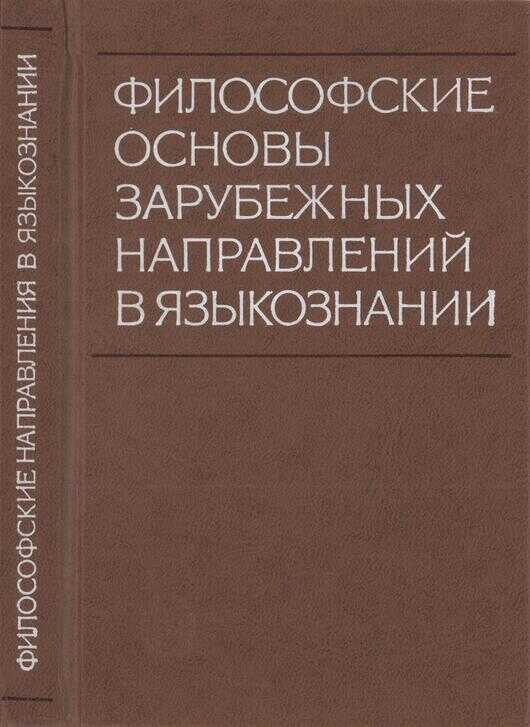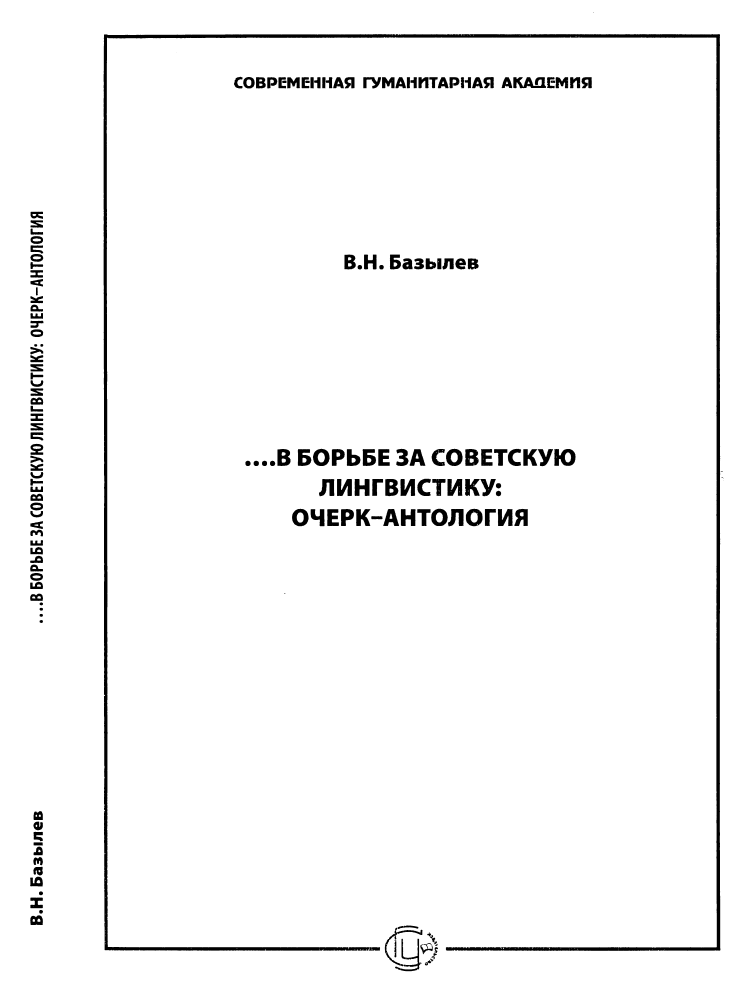Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В коллективной монографии дается анализ философских основ главных направлений в зарубежном языкознании (соссюрианства, неогумбольдтианства, глоссематики, хомскианства, американской дескриптивной лингвистики, американской социолингвистики).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Зиновьевич Панфилов»: