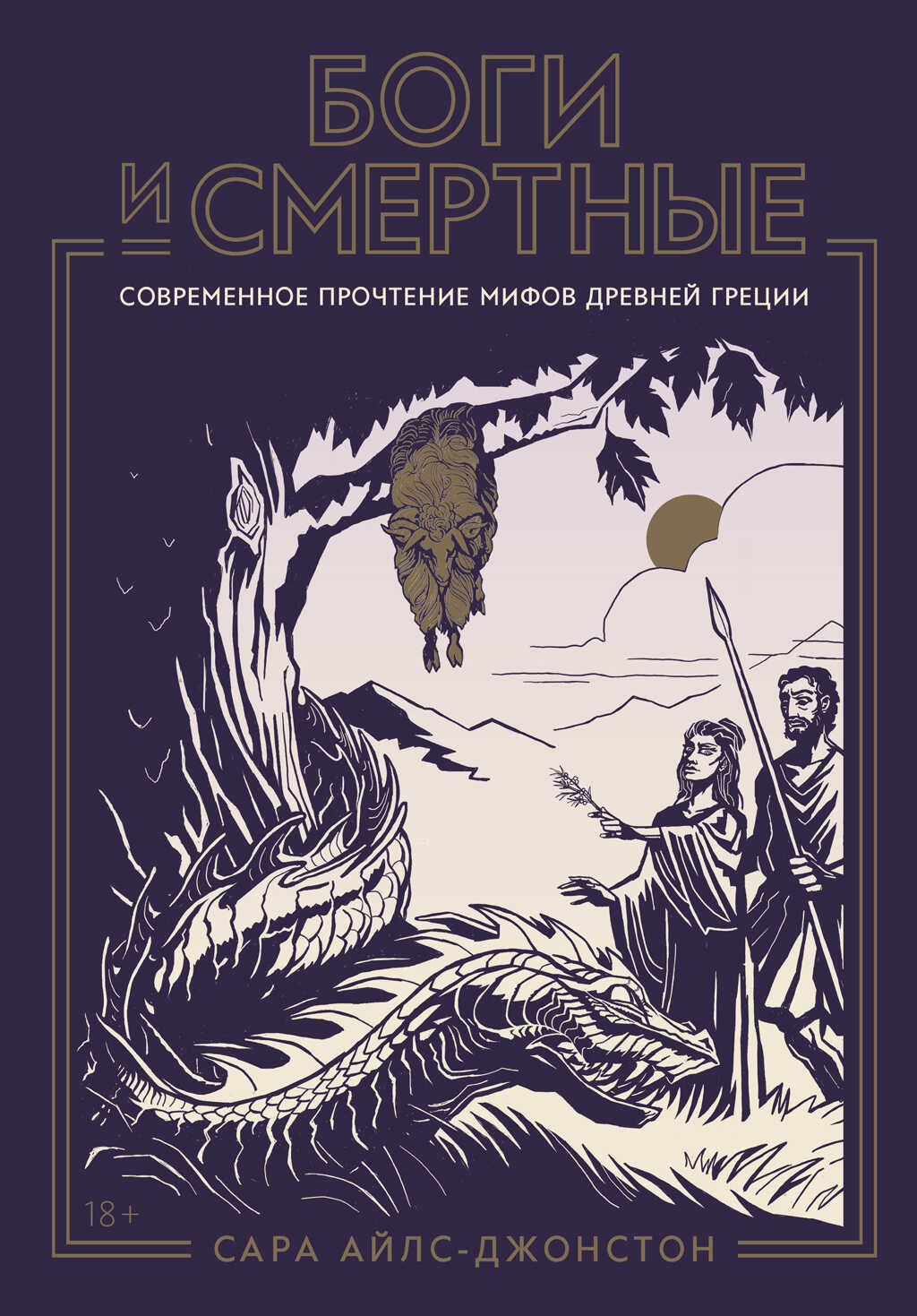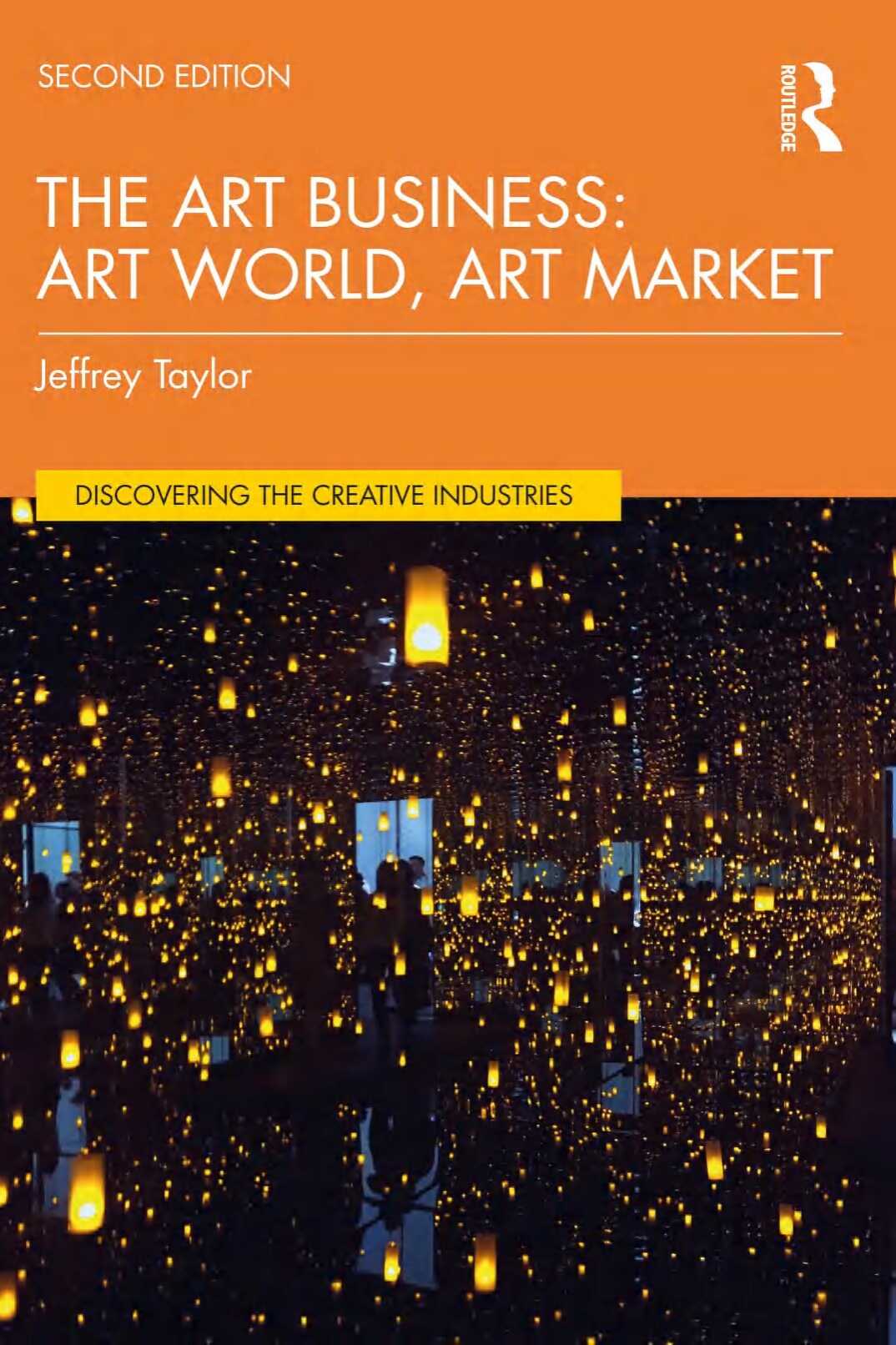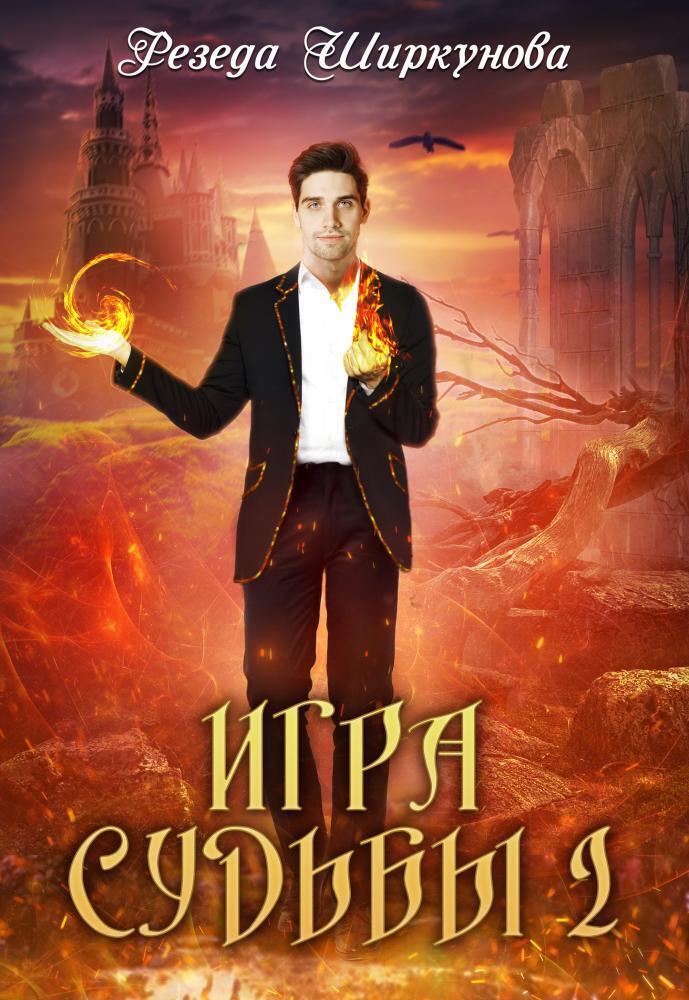Шрифт:
Закладка:
Мифы древних греков – это захватывающие истории, в которых есть все, что увлекает читателя в любые времена: интриги, любовь, страсть, месть, деяния низкие и героические. Стоит ли удивляться, что эти предания не первую тысячу лет владеют умами?! Сара Айлс-Джонстон приглашает нас вместе пройти невероятный путь от сотворения мира до новой жизни после Троянской войны, увлекательно пересказывая классические сюжеты – как самые известные, так и довольно редкие. На протяжении этого пути Айлс-Джонстон рассказывает о взаимоотношениях богов и смертных, демонстрируя, каков удел человека в мире, где правят могущественные, неподвластные людям силы. Книгу можно читать по порядку от первой главы до последней как единую историю, а можно вразнобой, в зависимости от того, что вас заинтересует в тот или иной момент, – темы и составляющие сюжетов перекликаются.Перепуганная Пандора попыталась поскорее заткнуть сосуд, но было поздно. Все несчастья оттуда уже выбрались – на дне притаилось только одно создание, которое, по воле Зевса, замешкалось и не успело сбежать. Это была Надежда. В этом состояла, пожалуй, самая жестокая часть задумки Зевса: пока сосуд закрыт, у людей еще остается Надежда. И пока она затуманивает им глаза, не давая увидеть, насколько плохи их дела, они будут терпеть, какие бы беды на них ни обрушивались.