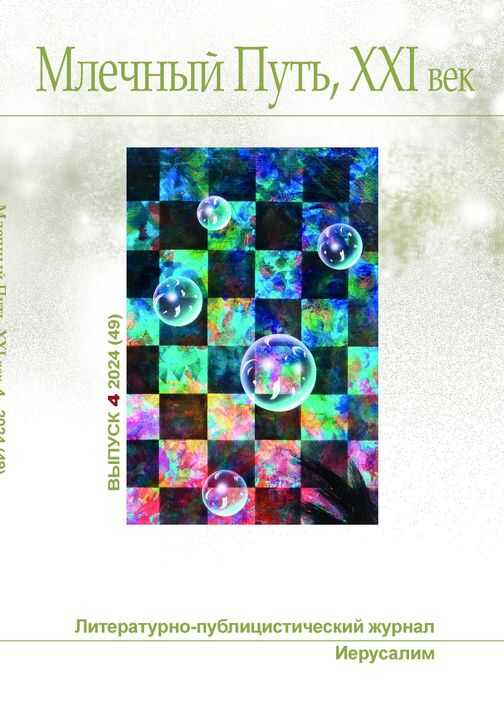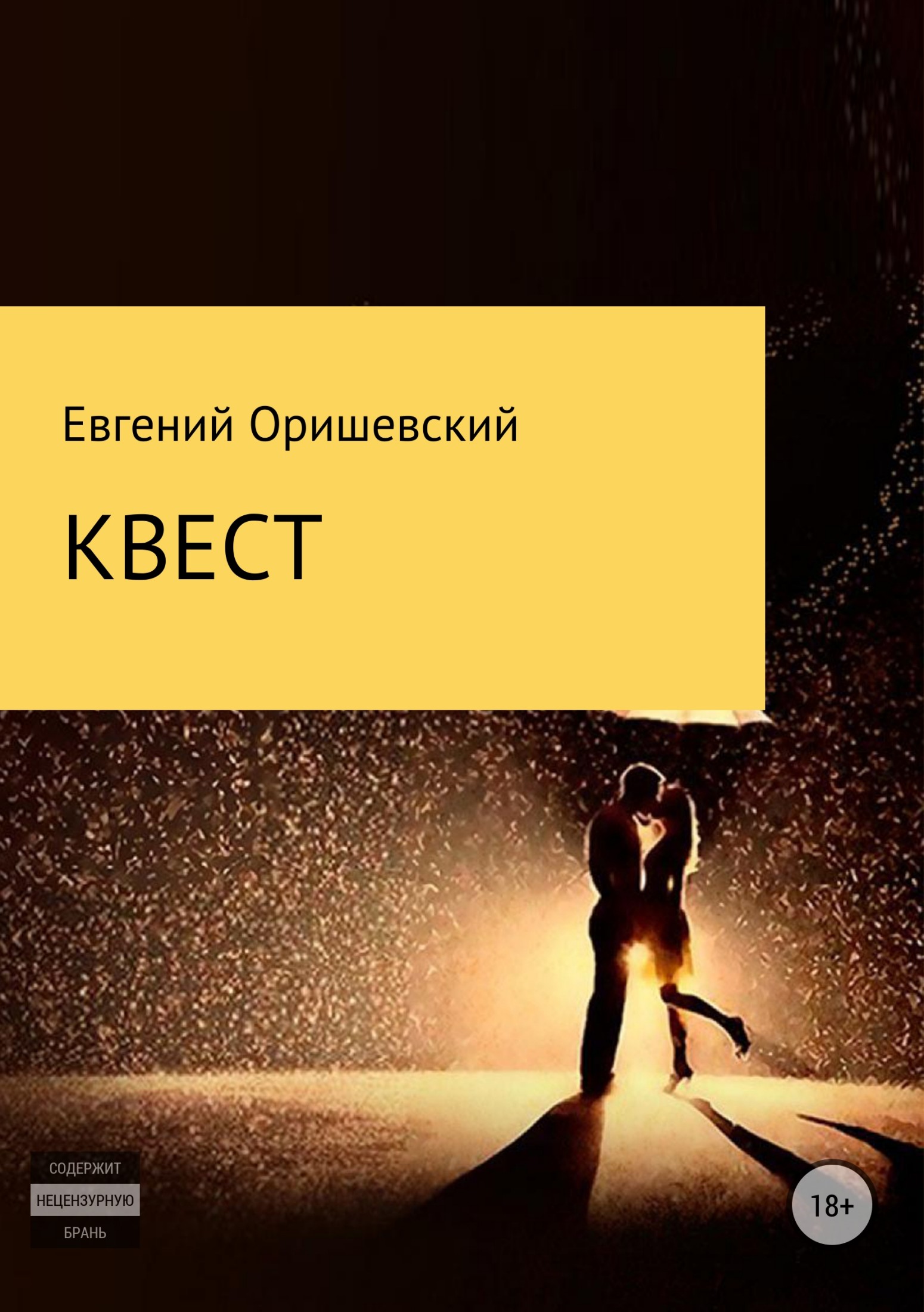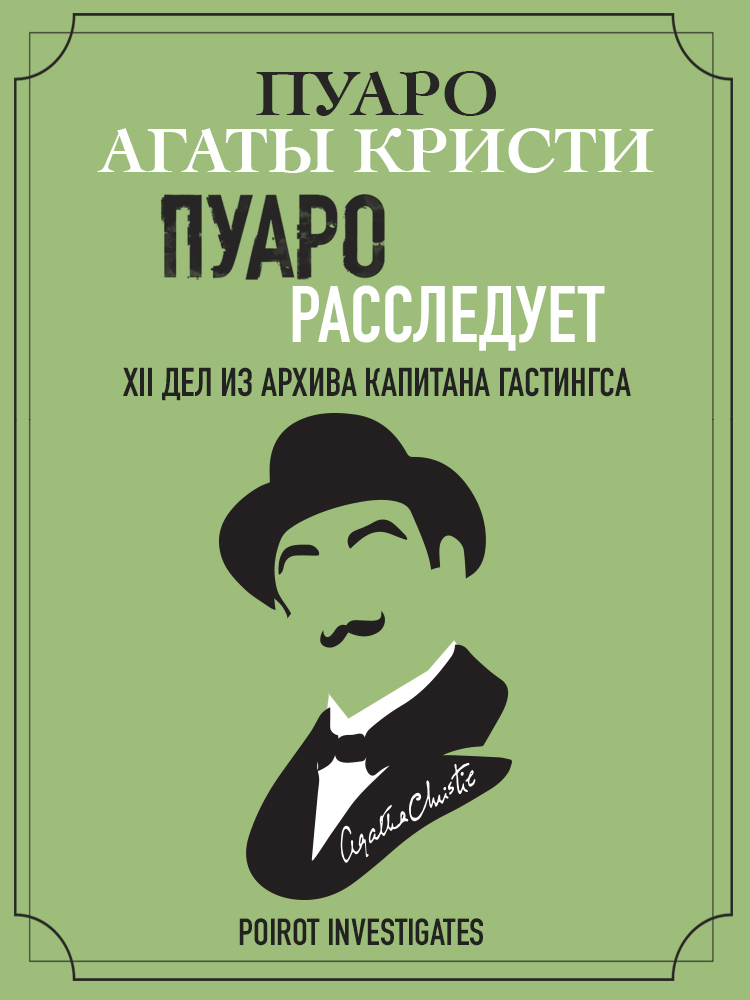Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Почему молодой человек, выходец из Киргизии, жестоко убил соотечественницу, с которой едва знаком? Отчего дряхлый старик, подкараулив красный автобус, начал стрелять по нему? И куда пропал известный ученый, проводивший засекреченные опыты в своей лаборатории? Ответы на эти и другие вопросы ищет автор сборника. А следом за ним придется включиться в поиски и вам, читатель.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Кирилл Николаевич Берендеев»: