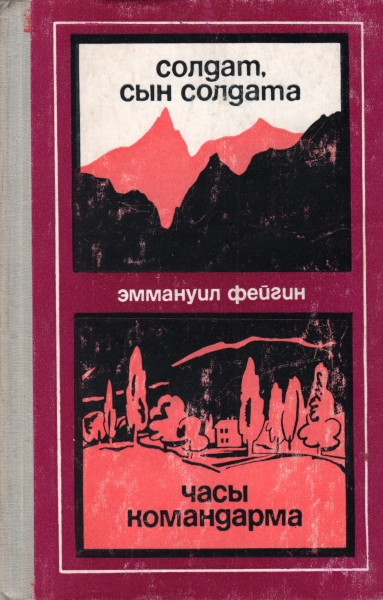Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Один день. Три жизни. Восемнадцать минут. Керри и ее лучший друг Тим мечтают спасать жизни, поэтому усердно готовятся к поступлению в медицинскую школу. Но неожиданно у их одноклассника останавливается сердце…Почти восемнадцать минут восходящая звезда футбола Джоэл Гринуэй мертв. Искусственное дыхание. Вдох. Выдох. Керри пытается помочь ему. Тим же слишком потрясен и застывает на месте. Они еще не знают, что эти восемнадцать минут изменят следующие восемнадцать лет их жизни…… отберут у Джоэла шанс на карьеру… … разобьют большое сердце Керри… … заставят Тима разочароваться в себе.И теперь им придется решить, что на самом деле значит – спасти чью-то жизнь?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ева Картер»: