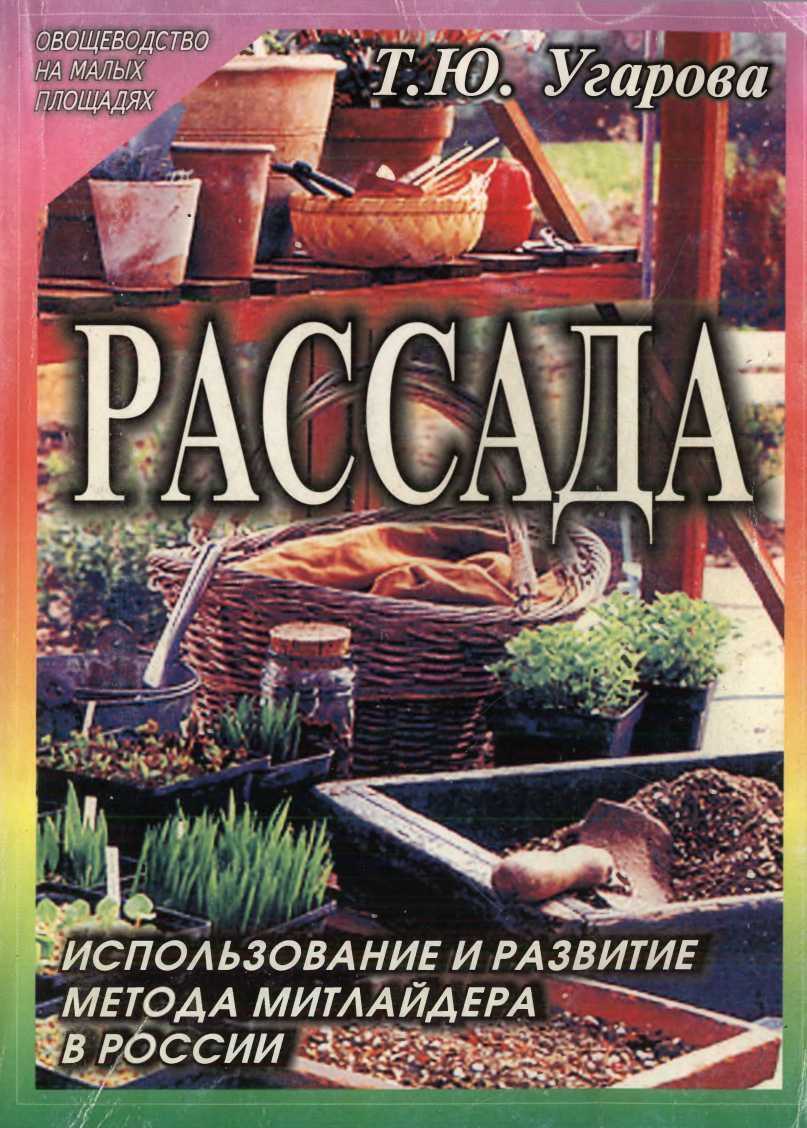Шрифт:
Закладка:
Как много может сделать всего лишь один неравнодушный человек?Настя, дефектолог в коррекционной школе, хочет помочь одному из своих учеников с легкой степенью умственной отсталости – Диме. Его родители переезжают за границу со здоровыми старшими детьми, а Диму хотят определить в интернат.Настя пытается убедить их: мальчик сможет адаптироваться в другой стране, не будет никому мешать. В попытке во что бы то ни стало сохранить чужую семью, Настя не замечает, как рушит другую семью – свою собственную.Марина Степнова о романе «Неудобные люди»:«Одно из главных достоинств этого романа – тон, ясный, спокойный, лишенный ненужной мелодраматичности, которой так трудно избежать, когда речь идет об особенных детях. У всех в этой книге своя правда и своя жизнь, и каждый заслуживает того, чтобы его поняли».