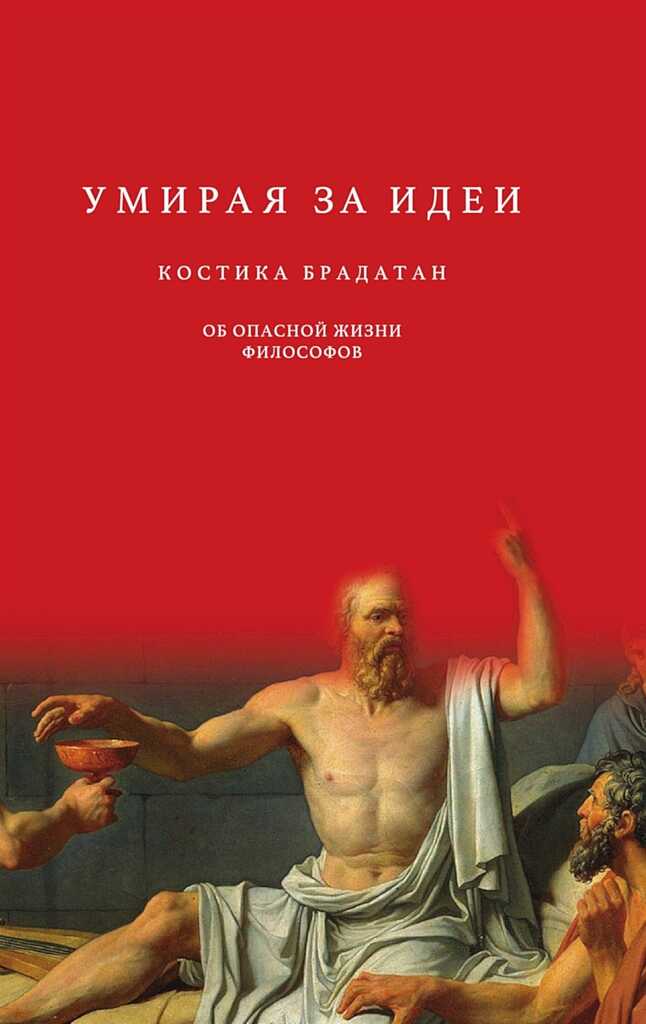Шрифт:
Закладка:
И тут наступает время для «Диалога утешения против скорби». Мор начал писать его вскоре после того, как попал в Тауэр. Вначале у него, возможно, были книги, которые он просматривал, и письменные принадлежности, которые он использовал. Но когда условия заключения стали более строгими, в распоряжении Мора остался только кусочек угля, которым он писал[337]. Видимо, он писал по несколько страниц за раз и передавал через своего слугу на волю или диктовал их своей дочери Маргарет во время ее посещений[338]. Факты эпизодического написания обильно присутствуют в тексте. Те, кто склонен читать работу менее придирчиво, могут сказать вслед за Ричардом Мариусом, что «Диалог утешения» «осторожно блуждает от темы к теме, как лодка, плывущая по спокойному морю, движимая легкими волнами»[339]. Более требовательные читатели, подобные Лилэнду Майлзу, одному из современных редакторов текста трактата, не могут не заметить его недостатки (утомительные повторы, плохое структурирование, фальстарты). Они склонны делать вывод, что книга «не более чем черновик»[340].
И все же судить «Диалог утешения» по обычным литературным стандартам было бы неуместно, поскольку текст не задумывался как «литературное произведение». Заглавие следует прочитывать буквально: Мор имел в виду, что написание этой книги принесет ему утешение. Учитывая то, что мы знаем о его положении, его страхе перед болью, его муках, перспективе пыток, кончины от ужасной смерти, ему было крайне необходимо утешение. Подобно речи, которую Сократ произносил перед афинским судом, «Диалог утешения» Мора в первую очередь был задуман как форма воздействия устного или письменного слова на опустошенную душу автора. Самым важным для такого текста является не его форма, даже не содержание, а то, как его написание влияет на самого автора. В этом отношении «Диалог утешения» блестяще справился со своей задачей[341]. Как говорит Майлз, человек, который «страшился боли, выписал собственную встречу с ней самым решительным образом». Редко, если вообще когда-либо, в «литературной истории у нас имелось подобного рода эмпирическое доказательство, что писатель достиг своей цели»[342]. Написание этой книги является ярким примером философии как искусства самоформирования: философ не просто занимается «говорением» о чем-то, но способствует изменению собственной жизни.
По-видимому, для того, чтобы защитить английских католиков от преследования Генриха VIII, а также самого себя от дальнейших неприятностей, Мор в «Диалоге утешения» переносит свою драму в отдаленное место и излагает ее в форме аллегории. Место действия — Будапешт, 1528 год. Турки продолжают наступать и могут в любой момент взять город штурмом. Перед нами — осажденная Европа; она очень напоминает состояние веры Мора в тот момент. Автор выводит себя в образе Антония, больного старика, опасающегося неминуемой катастрофы, боящегося преследований и принуждения, а также того, что может значить победа этих «нехристей» для него самого и его народа. Говорит в основном Антоний («Диалог» по сути своей является монологом), хотя иногда вмешивается его племянник Винсент, сначала чтобы представить читателю контекст, затем с дополнительными вопросами, подсказками или свежими новостями. Генрих выведен в образе великого турка Сулеймана, жестокого преследователя веры Антония/Мора, угнетателя истинных христиан, их главного врага, посланника дьявола. И хотя данный прием в основном используется не по литературным причинам, в результате текст значительно драматизируется: теперь это уже не личная драма Мора, а большая, почти космического масштаба битва. Кроме того, использование такого аллегорического подхода могло иметь гораздо более весомое значение для самопонимания и самореализации Мора, о чем я буду говорить далее.
Еще один философ, еще одна тюрьма
Ожидание Томасом Мором казни в тюремной камере, конец его очень многообещающей, но завершившейся неудачей политической карьеры (поскольку милости короля он лишился), необходимость для него как мыслителя понять, что с ним случилось, поиск более возвышенной формы «утешения» и его обращение к письму как к способу достижения данной цели — все это напоминает поразительно похожий случай — случай Боэция. Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480–524/525) был выдающимся римским философом, которого часто называют «последним из римлян и первым из схоластов». По-видимому, его невероятная образованность привлекла внимание короля остготов Теодориха Великого, которому Боэций какое-то время служил, занимая ряд влиятельных должностей (в том числе консула в 510 году). Однако в конце концов король обвинил его в государственной измене, и в 523 году Боэций лишился власти. Не все детали этой истории известны, но мы точно знаем, что после заточения Боэций был жестоко казнен.
Во время своего заключения философ написал работу, которой было суждено стать, пожалуй, самой влиятельной книгой в средневековой Европе, уступающей, по-видимому, только Библии. Это «Утешение философией» (De Consolatione Philosophiae). «Сюжет» книги обезоруживающе прост: в своей тюремной камере или под домашним арестом (не ясно) философ, обвиняемый в преступлении, наказываемом смертью, чувствует себя раздавленным, побежденным, совершенно безутешным. Он страдает от своего нынешнего положения, несчастий, обрушившихся на него, от потери свободы, жестокости всего происходящего. Но больше всего его беспокоит вопрос философского характера: если Бог, «повелитель всего сущего», добр, почему существует зло и почему злые люди остаются безнаказанными? Почему, в то время как «процветает и правит подлость, добродетель не только лишается наград, но, поверженная, она попирается ногами порочных [людей]»?[343]. Это глубокие и сложные вопросы, ответ на которые может знать только сама философия.
И вот она, госпожа Философия, чудесным образом материализовывается в тюремной камере Боэция. Он описывает ее «с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку». Подозревая, что его посетительница может быть продуктом его собственной обеспокоенной души, Боэций говорит, что ее рост «было трудно определить»: «В одно и то