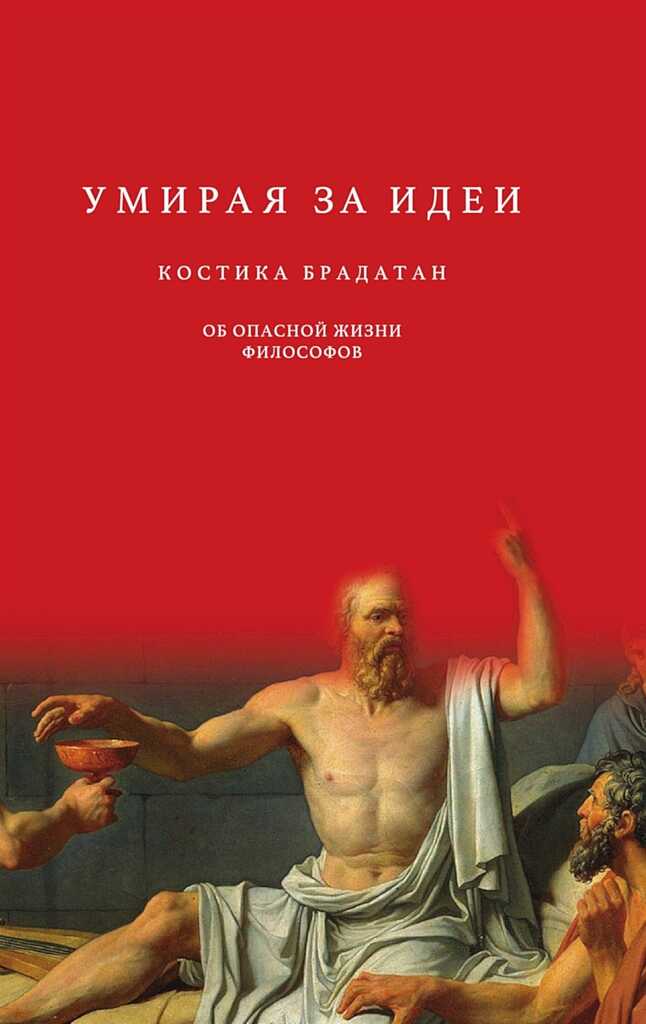Шрифт:
Закладка:
«Неутешение» философией
В книге De Consolatione Боэций по-философски рассматривает свою жизнь и ее неизбежное окончание, помещая свою кончину в рамки космической картины, и делает философские выводы. В «Диалоге утешения» Мор, напротив, рассматривает саму философию и находит ее недостаточной. То, что происходит с ним, требует чего-то более ощутимого, более сильного, более весомого. Вот почему он решает подойти к своему печальному положению с эсхатологической точки зрения. В самом деле, глядя на ситуацию с позиции эсхатологии, Мор переосмысливает ее таким образом, что собственное несчастье перестает быть биографической случайностью, а превращается в часть более обширной истории, которая выходит за пределы его биографии и даже исторического контекста. Думать эсхатологически — значит рассматривать все с точки зрения «четырех последних вещей»: смерти, суда, небес и ада. «Диалог утешения» — упражнение в личной эсхатологии.
С первых страницах Винсент, младший, более впечатлительный персонаж, задает тон. Наступили странные времена, говорит он. Сейчас даже смерть была бы предпочтительнее жизни: «Мир теперь стал настолько непрочным и такие великие испытания обуяли нас, что, думается мне, величайшее успокоение, кое человек может обрести, заключается в его предвидении собственного грядущего конца». Враг кажется неимоверно могучим, поскольку его злодеяния беспредельны. Ничто не может остановить его,
его чрезвычайную злобу и ненависть; его несравнимую жестокость, сопровождаемую воровством, грабежом, поджигательством и запустением на всем пути следования его армии. Кроме того, [он известен] своими убийствами и тем, что уводит пленников из родных домов, насильно разлучает семьи, оставляя родных вдалеке друг от друга. Одних держит в рабстве, других — в тюремном заточении, а иных приказывает пытать и убивать в своем присутствии, как триумфатор[355].
После того как контуры катастрофы обозначены, Антоний, за которым скрывается сам Мор, может выступить на авансцену. Он — глас мудрости. Несмотря на всю безысходность ситуации, мы должны научиться смотреть вперед, поскольку трагедия не будет казаться чем-то ужасающим, если мы посмотрим на нее с правильной точки зрения. К событиям этого мира, которые, кажется, принимают апокалиптический размах, мы должны применить эсхатологическое прочтение: ужас, который внушает Великий Турок, может быть огромным, но он — ничто по сравнению с «ужасающим страхом ада». Этот персонаж может ввергнуть весь мир в огненное пламя, но оно будет ничтожно по сравнению с «яростным неугасимым огнем», ожидающим нас в загробном мире, если мы не окажем сопротивление сейчас. С другой стороны, независимо от того великого вреда, который Турок может причинить нам в этом мире, он будет ничтожен, если мы «сравним его с радостной надеждой на небо»[356]. Изложенный таким образом, сюжет «Диалога» теперь уже не о человеке, ожидающем своей казни в лондонском Тауэре, а о чем-то гораздо более важном — о последних вещах.
Традиционная философия (та, которая, персонифицировавшись, раскрывает себя Боэцию в его камере) бессильна в ситуации, подобной ситуации Мора. Философ использует медицинские образы Боэция, но приписывает роль врача непосредственно Богу. И врач Боэция теперь низводит «естественную философию» до положения простого фармацевта («аптекаря»). «Натурфилософы» оставляют незатронутым («из-за отсутствия необходимых знаний») особый момент, который «не только является главным утешением для всех, но и без которого все остальные утешения — ничто». Этот момент заключается в принятии Бога в качестве общего ориентира для всех человеческих дел. Мы далеко отошли от Боэция. Действительно, в «Утешении» Бог играет центральную роль, а то, что госпожа Философия предлагает, — это философская формула для восхождения к божественности. Но это, как сказал бы Паскаль, Бог «философов и ученых», а не Бог «Авраама и Исаака». А такой абстрактный Бог бесполезен для Мора. Ему нужен живой Бог, который может помочь нам «двигаться, шевелиться и направляет нас вперед»[357]. Ему нужна фигура отца, который раздает наставления и наказания, но также любовь и прощение, нежность и заботу.
Всепроникающее чувство эсхатологического ужаса надвигается на нас с этих страниц. Повсюду, куда падает взгляд Мора, он видит признаки проклятия и гибели, беспомощности и поражения. Он упоминает «убожество этого мира, слабость плоти и коварные хитрости нечестивого злодея»[358]. Таким образом, на сцену выходит новый герой. Мы живем в постоянном состоянии войны, как будто недостаточно было того, что из-за первородного греха мы пришли в этот мир с генетическим заболеванием («очень опасной смертельной болезнью проклятия»). Изо дня в день мы должны бороться с грозным врагом. Мор не думает, что дьявол может заставить нас делать что-то против нашей воли. Но поскольку плоть слаба, ум немощен, а вера неустойчива, бедная душа часто оказывается бессильна. Это дополняется бесчисленными вариантами, которые враг использует, чтобы пронзить нас своими искушениями[359]. Мор перечисляет лишь некоторые из них, но этого достаточно, чтобы дать нам представление о той реальности, которая занимает его разум:
Он искушает нас миром; он искушает нас нашей собственной плотью; он искушает нас удовольствиями; он искушает нас болью; он искушает нас нашими врагами; он искушает нас нашими друзьями; и под видом кровного родства часто он превращает наших новых друзей в наших самых непримиримых врагов[360].
Учитывая ситуацию, в которой Мор находился на тот момент, особый интерес представляет соблазн преследования, который является «вторжением дьявола в полдень». Этот бес искушает вас отказаться от своей веры, и, если вы сопротивляетесь, за этим следуют преследования. Человек подвергается нападкам, запугиванию, унижению и даже смерти из-за своей веры. Мор говорит с уверенностью того, кто испытал все на себе: «Из всех его искушений это самое опасное, самое горькое и самое неумолимое…» Что же касается обычных искушений, то дьявол «крадется как лис». Но теперь все по-другому. Дьявол и Генрих VIII устраивают более устрашающее шоу — «преследования этого Турка за веру, которые он совершает, рыча в нападении, как неистовствующий лев»[361].
По временам отчетливо манихейский тон появляется в тексте Мора. Какой-то скрытый дуализм гностического происхождения присутствовал в богословском воображении христианства с момента его основания. Павлиниане, богомилы и катары — самые печально известные его порождения. Мор не катар, но кое-что из языка в «Диалоге утешения» похоже на их стиль. Он говорит, что этот мир «организован словно игра в противостояние, в которой на одной стороне находится народ Божий». С другой стороны «приступают могучие сильные борцы и коварные, что неотъемлемо, демоны, про́клятые, горделивые, отвратительные духи»