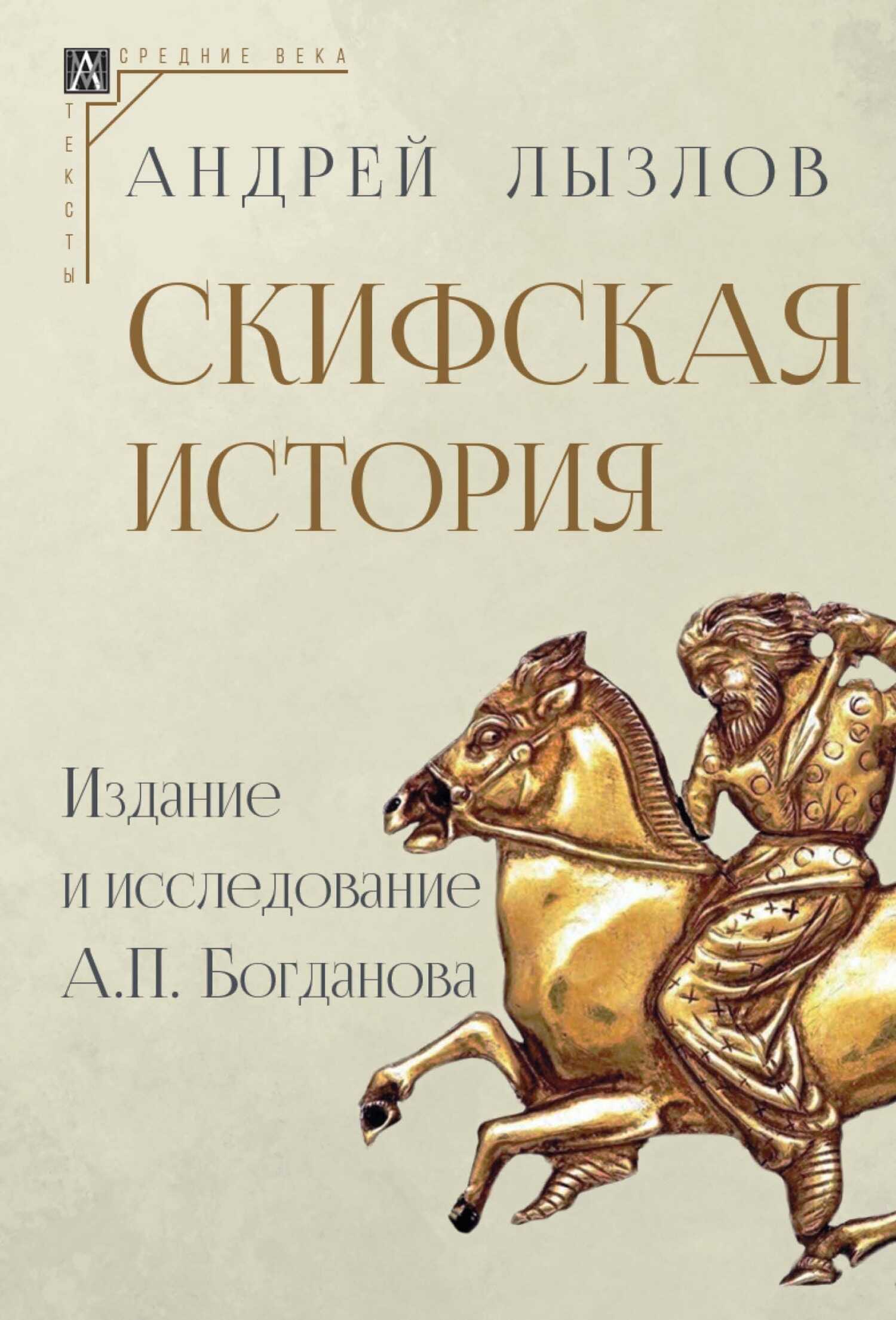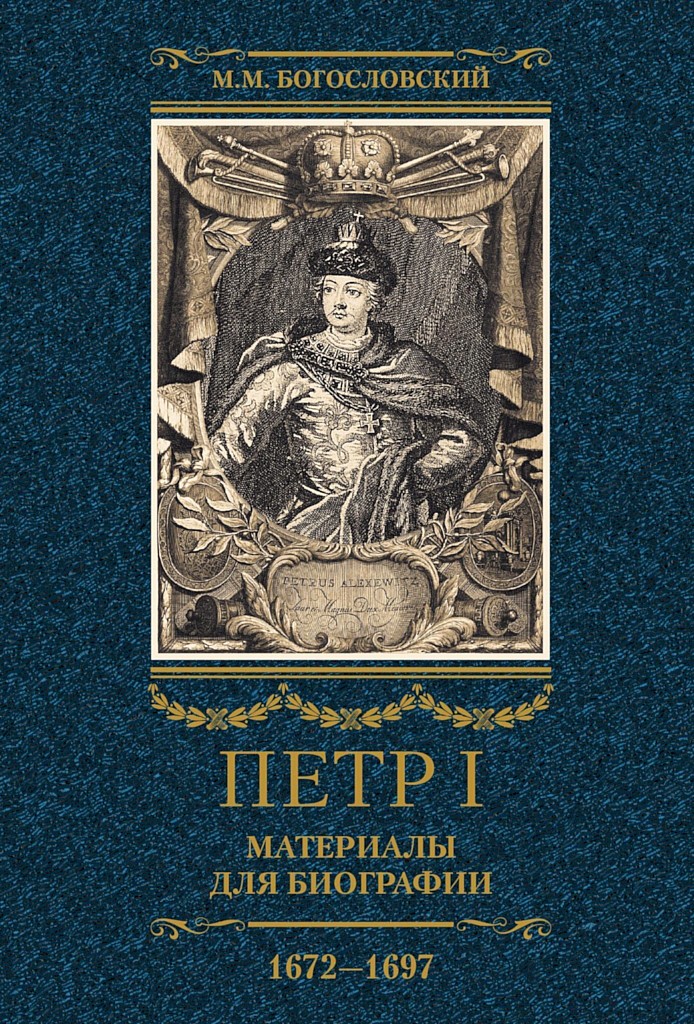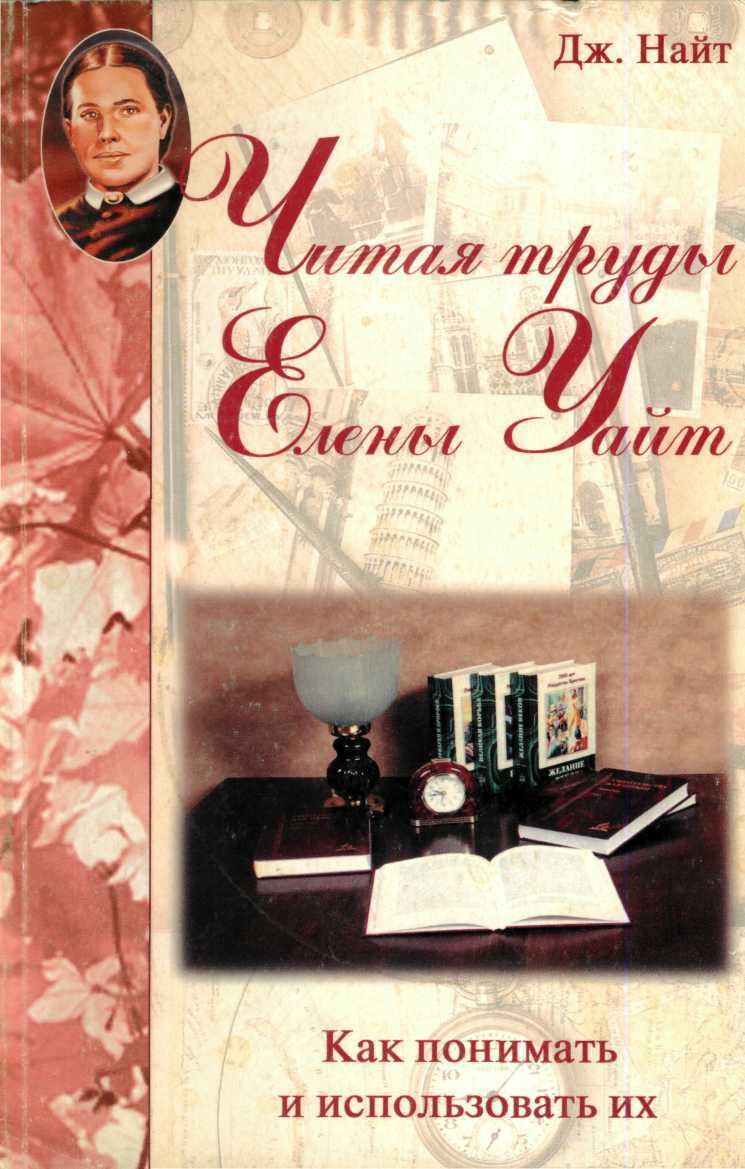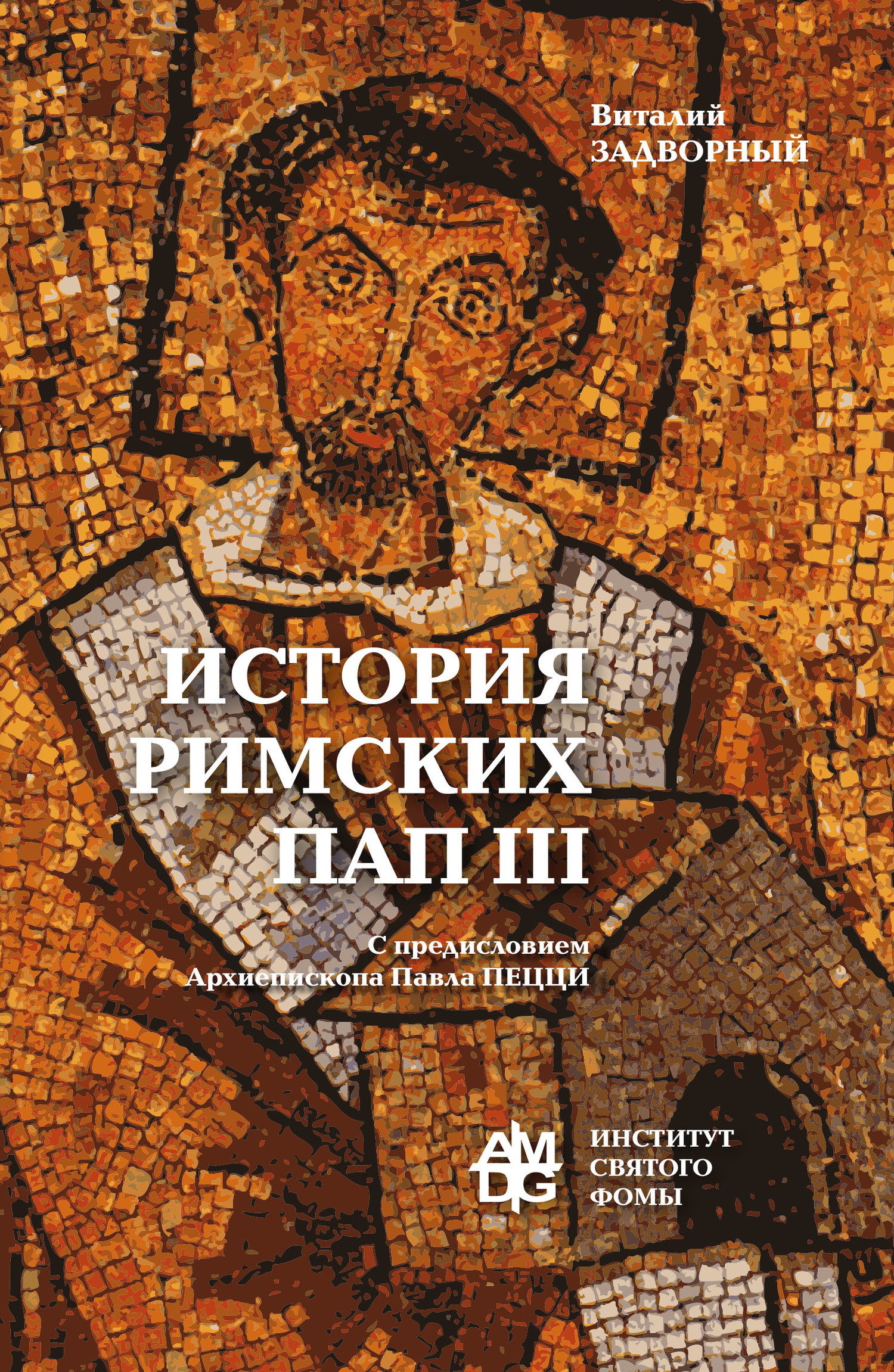Шрифт:
Закладка:
В 1692 г., за несколько лет до начала реформ Петра I, стольник Андрей Иванович Лызлов завершил первую в России обобщающую ученую монографию «Скифская история». Темой стали взаимоотношения кочевых, «скифских», и оседлых народов в Европе, Азии и Северной Африке с античности до XVII в., причем последними «скифами» автор считал турок-осман и крымских татар. Источники, на которые Лызлов тщательно ссылался, – вся доступная автору русская, польская и западноевропейская историография. Выводы автора, основанные на еще невиданном в мировой науке русском взгляде на мир, намного опередили его время. Лызлову удалось создать богатейшее, захватывающее, глубокое и драматичное повествование. Он стал не первым ученым историком в России до ее «европеизации» Петром I, но лучшим из них, предшественником даже не В.Н. Татищева, но самого Н.М. Карамзина.Книга включает: полное исследование жизни и творчества А.И. Лызлова; академическое издание «Скифской истории» с текстологическими и историческими комментариями в подстрочнике; археографические, источниковедческие и культурологические статьи о памятнике; библиографию и именной указатель.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.