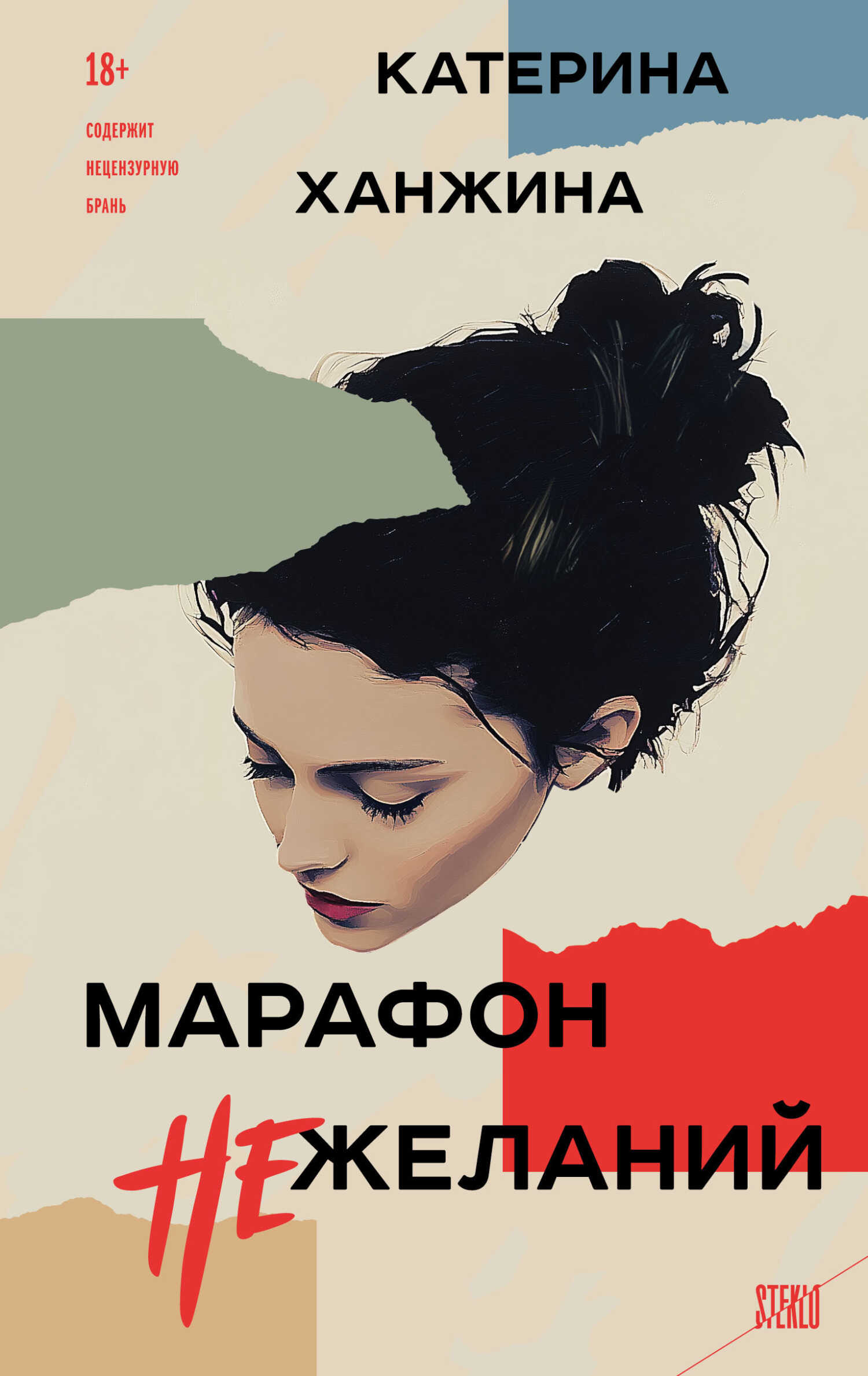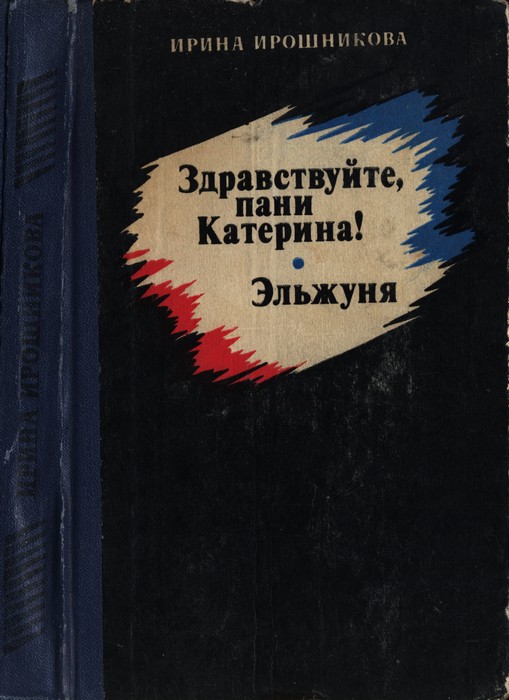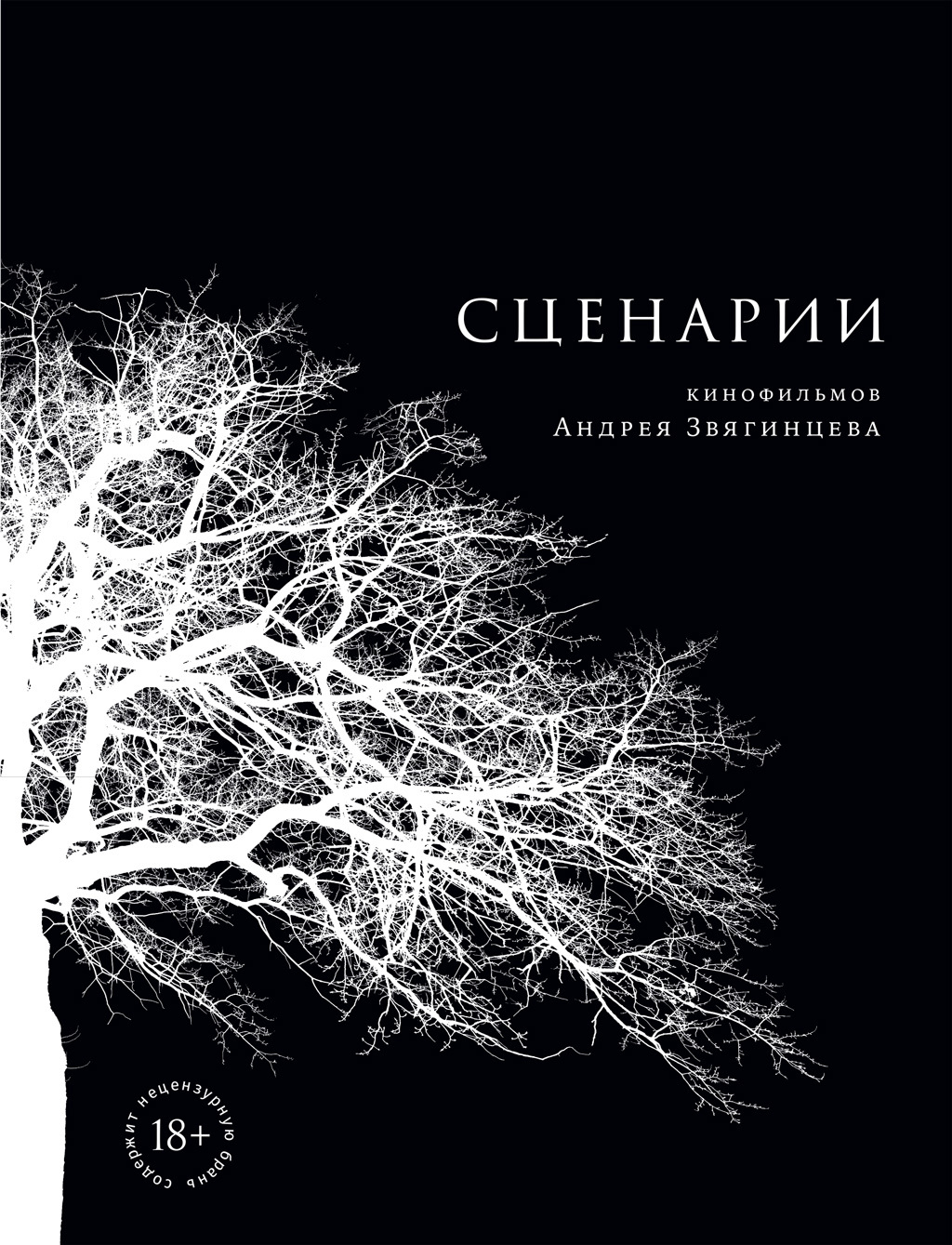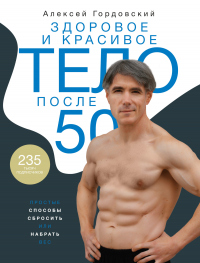Шрифт:
Закладка:
Новый роман серии STEKLO. То, что всегда происходит с кем-то другим.На отдаленном острове во Вьетнаме есть загадочная арт-резиденция «Джунгли». Её лидер, художник-коуч с псевдонимом Адам, известен как автор «кровавых» картин и жестоких перформансов. Он пропагандирует идею самовыражения через боль.Роза не понаслышке знает, что это такое: она учится в университете по специальности, которая ей не нравится, много рефлексирует и мечтает о трагически-красивой судьбе, благодаря которой она сможет стать настоящей писательницей.И вот, Роза отправляется в арт-резиденцию Адама, чтобы воплотить свое стремление в жизнь. Но реальность, с которой ей предстоит столкнуться, окажется совсем не похожей на ожидания и мечты.Софья Асташова, автор автофикшн-романа «Вероятно, дьявол»:«Из книги можно взять очень много, если захотеть. Если смотреть не только на увлекательный сюжет, а на мотивы поступков героев. А можно следить только за развитием истории и получить удовольствие на несколько вечеров, как от просмотра любимого сериала или реалити-шоу».