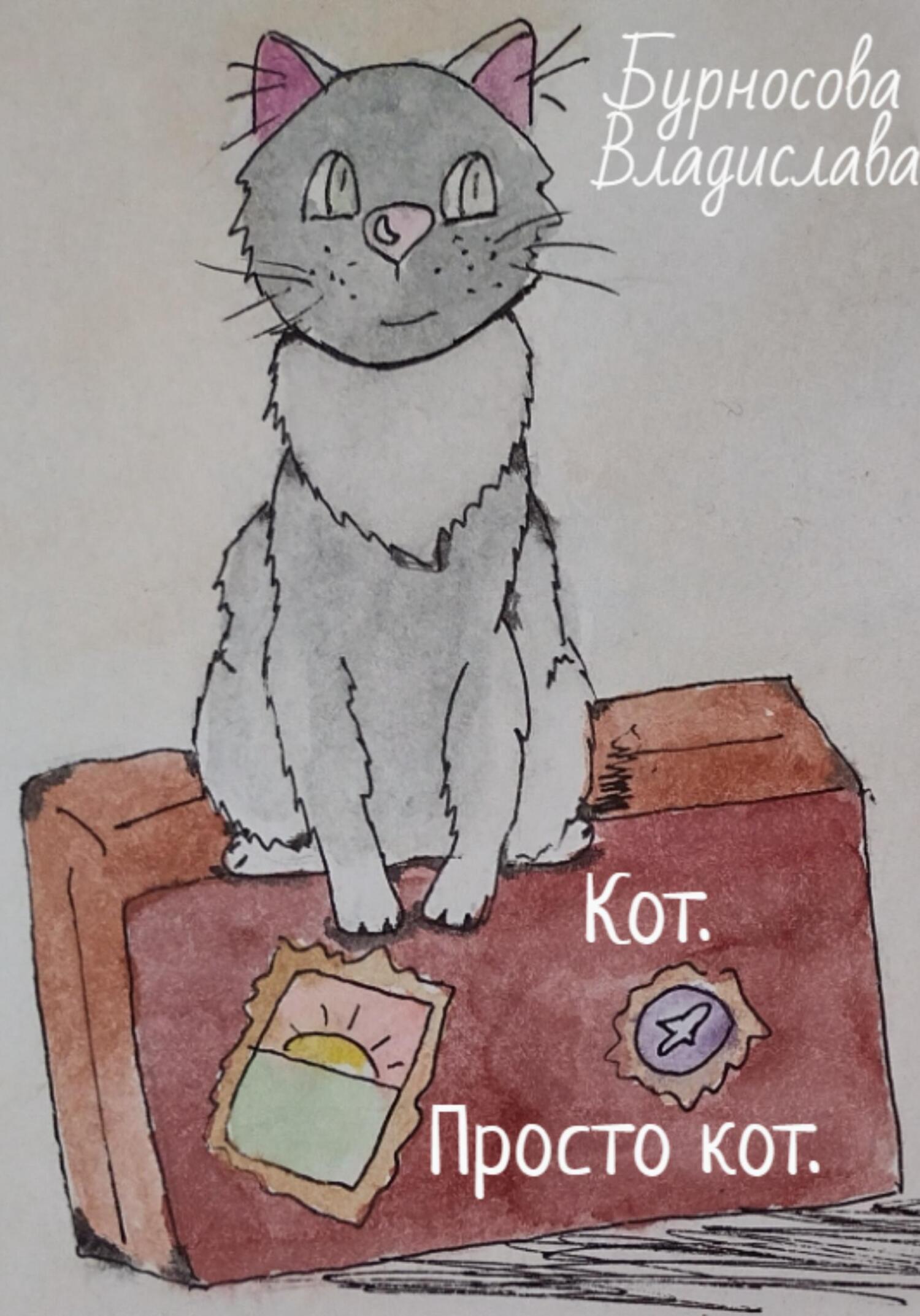Шрифт:
Закладка:
Кейт Гренвилл написала пронзительный исторический роман об одиноком сердце, затерянном среди бескрайнего океана, о любви и нежности, разбивающих скорлупу одиночества, и о бережности в отношениях с теми, кто близок к природе и земле, на которой живет веками. В 1788 году на берег Австралии с ружьями и непоколебимой верой во всемогущество Британской империи высаживаются колонисты. И вместе с ними – лейтенант Дэниел Рук. В юные годы – аутсайдер и математический вундеркинд, а ныне великолепный астроном и метеоролог, он обладает еще одним несомненным талантом: без проблем общается с туземцами. Рядом с ним оказывается очаровательная местная девочка Тагаран. Вместе с ней он легко преодолевает языковую и культурную пропасть. Но такое ли общение нужно белым поселенцам, претендующим на богатейшие земли Нового Южного Уэльса? Роман основан на записных книжках лейтенанта Уильяма Доуза, офицера Королевской морской пехоты.