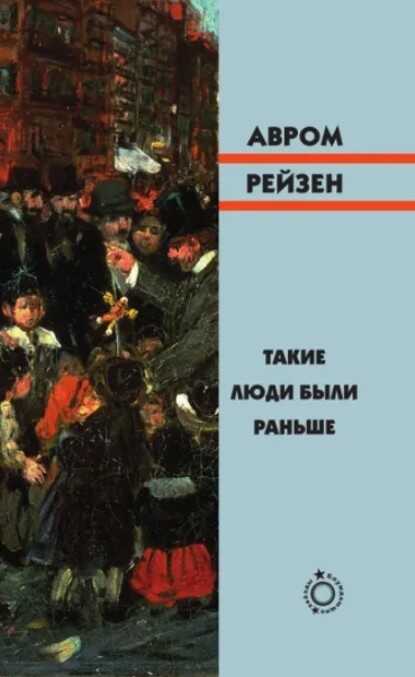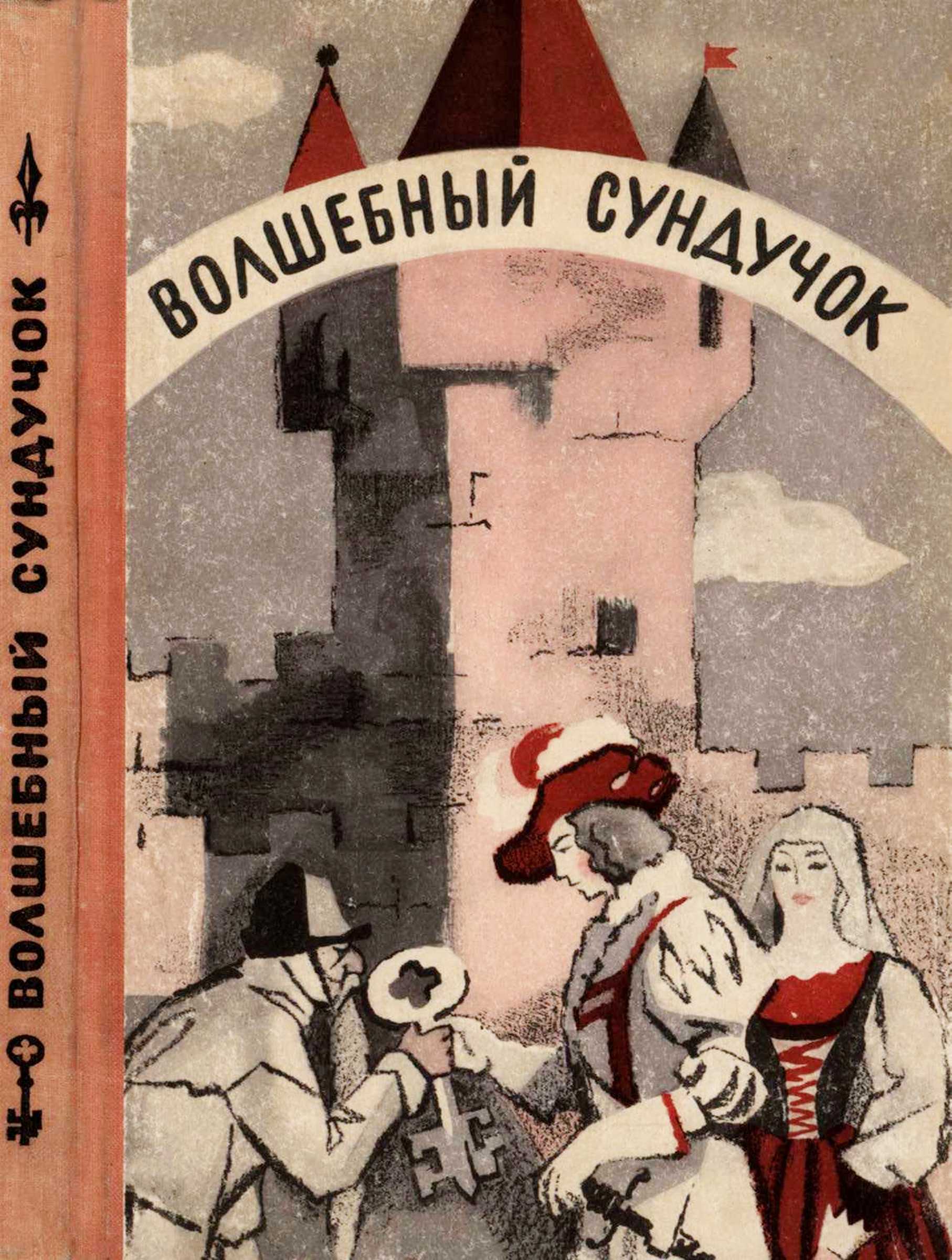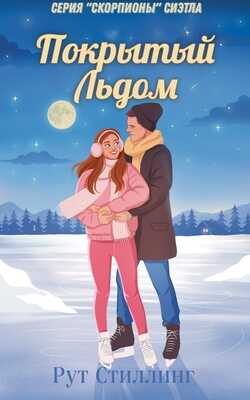Шрифт:
Закладка:
Я приношу ей все новые стихи, разумеется, вечером, когда она приходит из лавки. Бабушка живет через два дома от нас, у своего старшего сына. Он большой знаток Талмуда, но человек недобрый.
Вхожу в комнату. Бабушка сидит за столом и вяжет чулок. Дед (он всегда прикидывается злым, хотя на самом деле очень хороший) сидит на узкой лежанке, которую специально для него пристроили к печи, и изучает какую-нибудь книгу на древнееврейском.
Я стою около бабушки и не решаюсь сказать, что сочинил стихотворение, пока она не спросит:
— Чего молчишь? Скажи что-нибудь!
Дрожащей рукой я вытаскиваю из кармана клочок бумаги, исписанный рифмами вдоль и поперек, и, набравшись храбрости, говорю:
— Вот, стихотворение… Сам сочинил…
— Молодец! — тут же хвалит бабушка. — Ну, читай!
Воодушевленный преждевременной похвалой, я начинаю декламировать:
— У кого в кармане грош,
Тот всегда для всех хорош…
Уже первые строчки так нравятся бабушке, что она не может удержаться и поворачивается к лежанке, где сидит дед:
— Моше, ты слышал? Разве не золотая голова у ребенка? А, Моше, что скажешь?
Но дед недоволен.
— Лучше бы учился прилежно, чем ерундой заниматься, — ворчит он сердито.
Когда я слышу такое мнение, у меня руки опускаются. «И правда, — думаю, — чего я как дурачок?..»
Но бабушка говорит:
— Не слушай старика. Очень хорошие стихи, просто замечательные!
Она дает мне копейку и требует, чтобы я принес новое стихотворение, тогда еще копейку получу.
Копейка — это очень неплохо. И я сочиняю стишок, за ним второй, за ним третий — три стихотворения подряд! Я сам удивлен такой плодовитостью. Подсчитываю, что, если писать по три стихотворения в день, за год я разбогатею. Кроме того, стихи ведь не только тем ценны, что на них можно заработать. Правда, отец так не считает, он вообще против, чтобы я писал. И дед недовольно ворчит, но что с того, если у меня есть бабушка, которая платит наличными за каждое стихотворение?
Я счастливый, обеспеченный человек.
Но прошло две недели, а я так ничего и не сочинил. Я растерян. «Господи, — шепчу, — неужели я больше ничего не смогу написать? Тогда и жить незачем!»
Чем больше я огорчаюсь, тем хуже сочиняется. А что, если об этом и написать? Я даже придумал две строчки:
Вы будете смеяться, братья,
Но не могу стихи писать я…
Но я боюсь раскрыть свою ужасную тайну. Зачем кому-то знать о моей беде? Ведь хотя дома и не ценят моих стихов, мама зовет меня «наш рифмач», и мне это очень нравится.
Через три недели бабушка спрашивает:
— Ну, что ж ты своих стихов больше не показываешь?
Я краснею от стыда, чувствуя, что падаю в ее глазах, и твердо решаю, что сейчас же напишу стихотворение.
На другой день я пытаюсь что-нибудь придумать, уже голова раскалывается, а ничего не выходит. Но ведь я должен принести бабушке стихотворение, а не то я пропал. Давненько я копейки в глаза не видел…
И вдруг мне в голову приходит совершенно дикая идея.
У нас дома стоит на полке томик стихов. Я выбираю из него лучшее стихотворение, переписываю и несу бабушке.
Дрожу от страха, как бы не поймали.
Читаю бабушке стихотворение. Голос дрожит, запинаюсь на каждом слове, так что, наверно, и смысла не понять.
Бабушка слушает, потом зевает и говорит:
— Что-то мне эти стихи не нравятся. Ты, милок, совсем писать разучился.
Я растерян: как это? Они же в книжке напечатаны… Почему я должен выслушивать упреки за чужие стихи? И, не подумав, я выпаливаю:
— Это не мои!
Бабушка удивленно смотрит на меня.
— Что значит «не твои»? — спрашивает она сердито. — Чего ты болтаешь? Глупый мальчишка…
Бабушка не понимает, что стихи тоже можно красть, а я не собираюсь ей объяснять. Пожалуй, лучше быть глупым мальчишкой, чем вором.
Я ушел от бабушки без похвал, без гонорара и дал себе слово, что больше никогда, никогда не буду воровать стихов.
И, с Божьей помощью, до сих пор его держу.
1909
Гимназист
Первым, кто отдал сына в гимназию, был Авром-Эля.
Авром-Эля — известный в местечке просвещенец. Помню, о нем даже ходила легенда, что в молодости, еще до свадьбы, он чуть не выкрестился. Вот до чего додумался, мыслитель! Как он избежал крещения, легенда умалчивала. Правда, у нее был вариант, что его отговорила Хана-Бейла, его нынешняя жена, которая еще в девичестве слыла большой умницей. С этой Ханой-Бейлой он счастливо живет до сих пор.
Аврому-Эле многое прощали: и что на буднях короткую одежду носил, и что в помещении головы не покрывал. Более того, радовались, что он хотя бы по субботам молился, правда, не в синагоге, но, главное, с миньяном. Причем в миньяне, с которым молился Авром-Эля, к еврейским обычаям относились очень трепетно, даже пиютов после «Школим» и «Зхойр»[92] не пропускали… Бывало, Авром-Эля даже вел утреннюю молитву, и, надо сказать, такое произношение нечасто услышишь. Что ни слово, то жемчужина! Только одно смущало: уж больно мягко он букву «ламед» выговаривал. Но один просвещенец из миньяна объяснил: это из-за того, что Авром-Эля много немецких книг читает… Так что и с мягким «ламедом» в конце концов смирились.
Он всегда приходил со своим старшим сыном. Мальчик сидел рядом с отцом и неторопливо переворачивал страницы молитвенника. Говорили, сын Аврома-Эли все правила грамматики назубок знает, причем не от учителей, отец сам его учил. И молящиеся смотрели на этого мальчика, Шлеймеле, с таким же уважением, как на его отца.
Мой отец тоже приходил туда на молитву. Он любил побеседовать с Авромом-Элей, когда выпадал случай. Тот был не слишком разговорчив, но моего отца, тоже не чуждого идей Ѓаскалы[93], уважал, и они часто уходили с молитвы вместе, а остальные шли следом и прислушивались, о чем ведут речь двое «ученых»…
А я тем временем разговаривал со Шлеймеле:
— Ты вообще в хедер не ходишь?
— Нет, — кратко отвечал он.
— Тебя отец всему учит?
— Да, отец…
— И русскому языку тоже?
— И русскому, и немецкому.
— И немецкому?!
Вот это да! Я так упал в собственных глазах, что больше не решался заговорить со Шлеймеле.