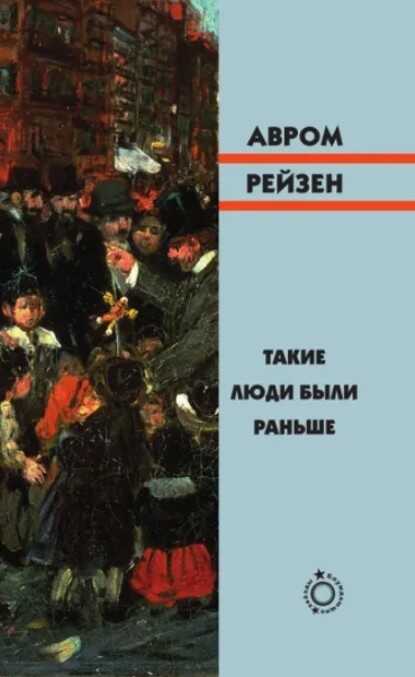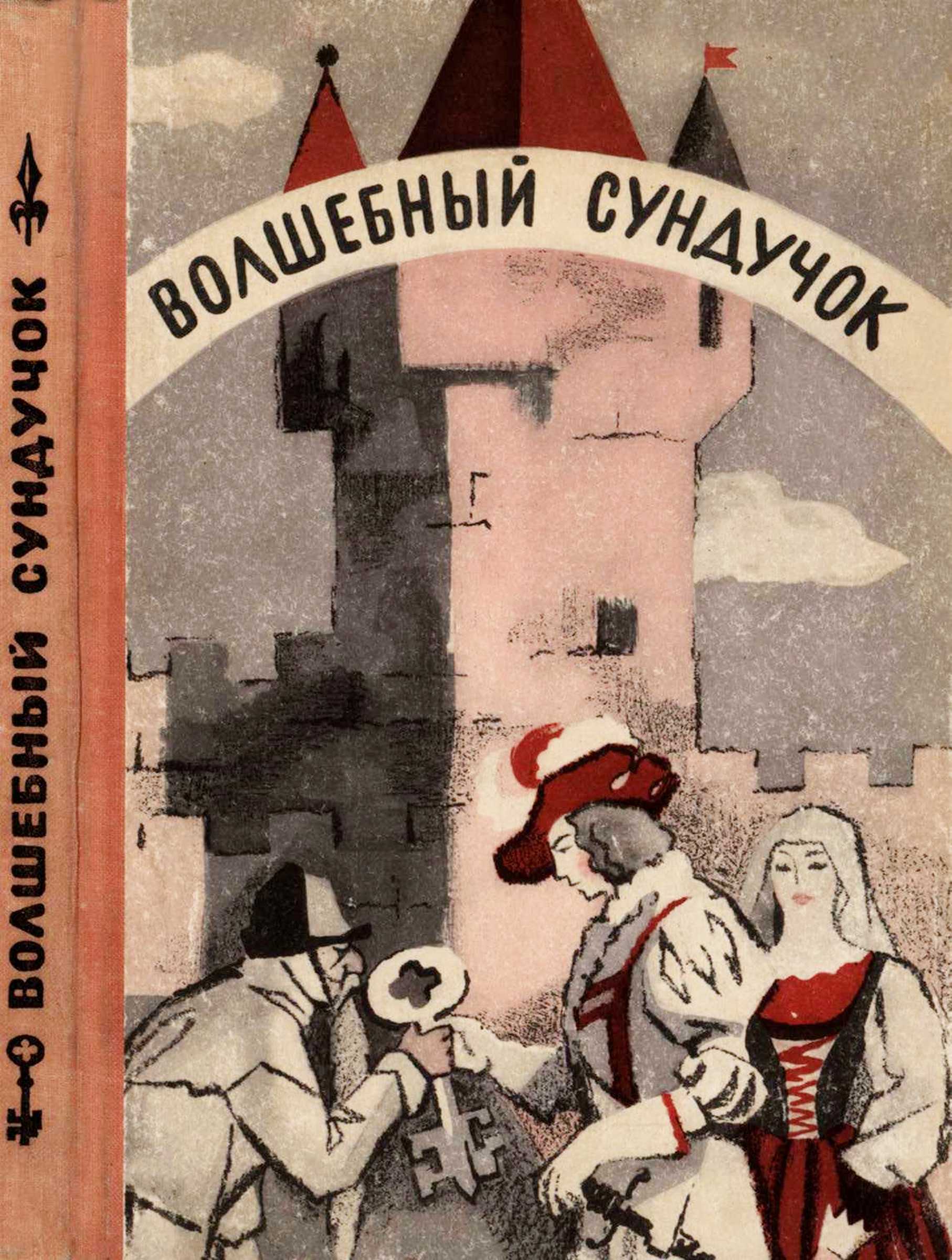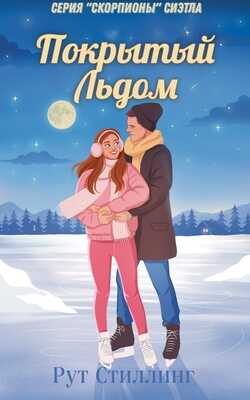Шрифт:
Закладка:
Но он ничуть не зазнался и однажды сказал:
— Слушай, а я после праздника в Минск еду, в гимназию…
— В гимназию!
Я вытаращил глаза, но быстро опомнился и спросил:
— Там же по субботам писать надо?
Шлеймеле улыбнулся и ничего не ответил.
Я ушел, совершенно подавленный. Как же я ему завидовал! Мой отец разочаровал меня, я даже стал его слегка презирать. Тоже мне, отец называется! Куда ему до Аврома-Эли?.. А я-то как же? Когда Шлеймеле приедет из Минска, он со мной даже разговаривать не захочет.
Я твердо решил, что немедленно начну учить русский. Купил шесть листов бумаги, сшил тетрадку на сорок восемь страниц и каждую страницу разделил чертой на две колонки. В один столбик я записывал трудные русские слова, в другой — еврейские и без конца повторял: «Бог — Гот, небо — дер гимл, звезды — ди стерн, птица — а фейгл…»
Так я надеялся выучить русский язык, и, когда приедет Шлеймеле, я не буду молчать, как немой, а смогу с ним хоть парой слов перекинуться.
*
Однажды летом мы пришли с отцом на субботнюю молитву, и вдруг я вижу: кто-то сидит рядом с Авромом-Элей. Знакомое лицо! Фуражка с кокардой, на синем мундире — латунные пуговицы в ряд. Держит в руке молитвенник и то на потолок смотрит, то на кантора, а все — на него.
Я сперва удивился, но вдруг до меня дошло, что это же сын Аврома-Эли Шлеймеле, который в минской гимназии учится, а на лето, значит, домой приехал.
Стою, уставился на него, хоть и понимаю, что неприлично вот так глазеть на человека, даже если он гимназист… А ведь я тоже времени даром не терял, кое-что успел за год: у меня в тетрадке триста сорок семь русских слов записано, и я все наизусть помню. И немецкий алфавит уже почти выучил… Короче, особо дивиться нечему… Хватит, думаю, его разглядывать. Подумаешь, фуражка и мундир с пуговицами! Лучше в окно буду смотреть. Но не так-то это просто. Все равно поглядываю на него украдкой, чтобы он не заметил. Но, как назло, стоит мне к нему повернуться, тут же взглядом встречаемся.
Ну и что, думаю, раз мы с ним старые знакомые, почему бы мне на него не смотреть? Когда кантор начнет «Шмойне эсре» повторять, наберусь храбрости, подойду, подам руку и скажу по-русски: «Здравствуйте!» Пусть знает, что я тоже не лыком шит.
Казалось бы, чего проще, но кантор уже до «Сим шолойм»[94] добрался, а я все стою, с духом собираюсь.
Ладно, дождусь, когда начнут свиток Торы читать. Тогда удобней будет. Но вот уже скоро мафтир[95], а я так и не осуществил своего плана. Только повторяю про себя: «Здравствуйте!» И вдруг слышу: «К Торе вызывается реб Шлейме, сын реб Аврома-Эли…»
Читать свиток в фуражке, в мундире с латунными пуговицами… Странно это выглядит, но я доволен. Раз его вызвали, значит, сейчас поближе подойдет.
Когда благословлял, он слегка запнулся, пару слов проглотил, но в целом ничего, справился. Сейчас дочитают, и я подойду, поздороваюсь. Лучше по-еврейски, а то еще вместо «Здравствуйте!» у меня получится «Ждравствуйте!» Со мной такое бывает. Вот будет ему потеха.
Дочитали, и я шагнул к нему, но меня оттеснили несколько прихожан, они тоже поздороваться захотели.
«Не пристало мне, — думаю, — вместе с этими невеждами…»
Лучше после молитвы.
И после молитвы Господь придал мне мужества. Подошел, подал руку и стою, молчу.
А он пожал мне руку и улыбнулся. Я совсем смутился. Выпалил:
— Вы гимназист! — А что дальше сказать, и не знаю.
— Да, гимназист. — Он опять улыбнулся. — А ты как поживаешь?
— Я… Я русский уже неплохо знаю, только словарный запас маловат…
— Ну, увидим. — Он снова пожал мне руку, и они с отцом ушли.
А мой отец подходит ко мне, довольный такой, и спрашивает:
— О чем вы разговаривали?
— Да так, — отвечаю небрежно, как взрослый, — о русском языке. Он меня спросил, что одно слово значит…
— Ну, а ты знал?
— Да! — говорю с гордостью.
Отец погладил бородку, кашлянул:
— Это неплохо, что вы с ним приятели. Можешь у него кое-чему поучиться немножко. Грамматика, счет, то, се…
Всю субботу отец смотрел на меня с уважением. Еще бы, я же с гимназистом говорил!
1909
Еврейское сердце
Берл был еще ребенком, когда узнал, сколько в мире евреев. Двенадцать миллионов! Так черным по белому было написано в еврейском календаре. Правда, в другом календаре сообщалось, что гораздо меньше, всего лишь восемь с чем-то, но Берл не поверил. Наоборот, он не сомневался, что на самом деле не двенадцать миллионов, а даже больше, потому что разве можно сосчитать всех? Вот, например, его младшей сестренке Динеле уже три года, а она до сих пор не записана. Он часто слышит, как мать об этом отцу напоминает. А сколько еще незаписанных детей в мире? Но не беда, Берлу и двенадцати миллионов достаточно. А станет еще больше! Ведь Бог благословил евреев, что их будет как песку морского. Правда, это легенда, в Торе много всяких легенд.
И эти двенадцать миллионов евреев мальчик Берл любил всем сердцем. Огорчало только, что они не живут бок о бок друг с другом, в одной стране. Жили бы они все вместе, было бы замечательно! Берла утешает только мысль, что Бог сам сказал, что рассеет евреев по всему свету, а потом соберет их. Рассеял Он их уже давно, пора бы и собрать. Но когда-нибудь непременно соберет. Берл знает, что Господь не врет: сказал, что евреи будут жить в изгнании — они и живут в изгнании. Значит, и все остальное, что Он обещал, тоже осуществится.
И потом, Берлу евреев и тут хватает. «В России, — читает он в календаре, — 5 000 000 евреев». Он пересчитывает нули. Вдруг ошибся? Нет, все правильно, пятерка и шесть нулей. Значит, здесь, в России, у Берла пять миллионов! В одной стране! С таким количеством евреев уже кое-что можно. Пусть Россия — тоже изгнание, тут евреев притесняют, но все не так ужасно. Дети ходят в хедер, есть синагоги, раввины, обрезание делают, свадьбы справляют. Чего ж Бога гневить? В Риме, в июне, было куда хуже. Берл об этом и из Талмуда знает, и из «Диврей йемей олам»[96], куда тоже изредка заглядывает, когда отца дома нет. Вышел тут недавно закон, запрещающий евреям шинки держать. Ничего страшного, будут держать