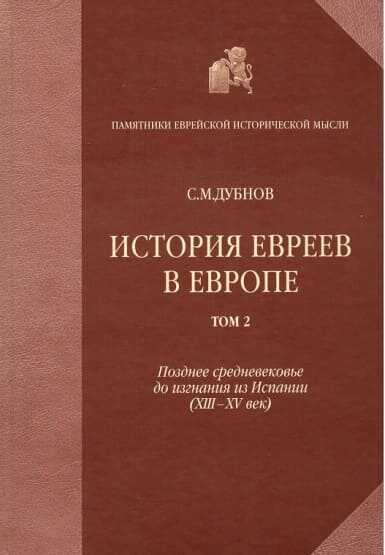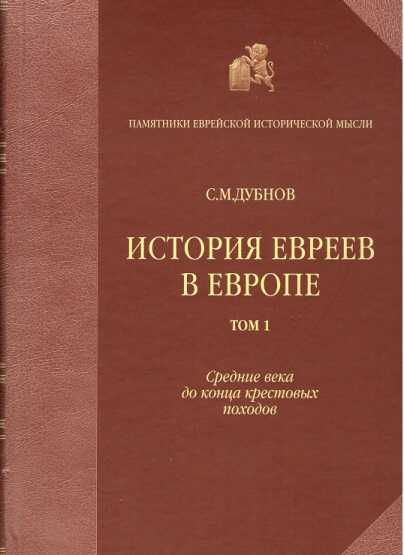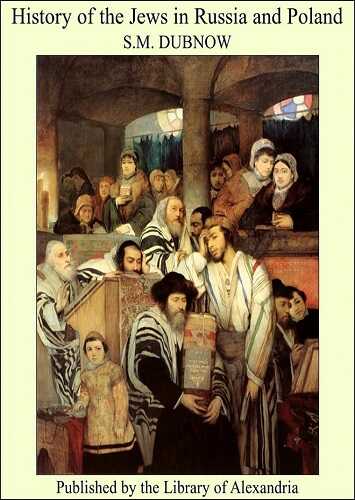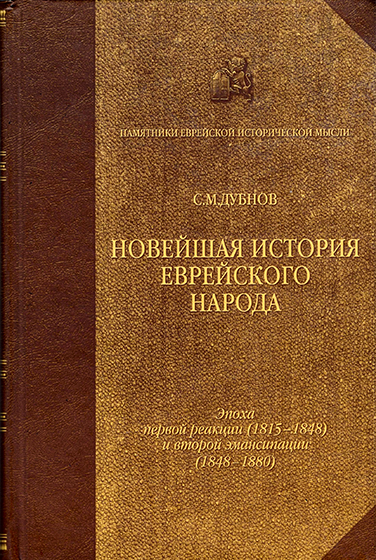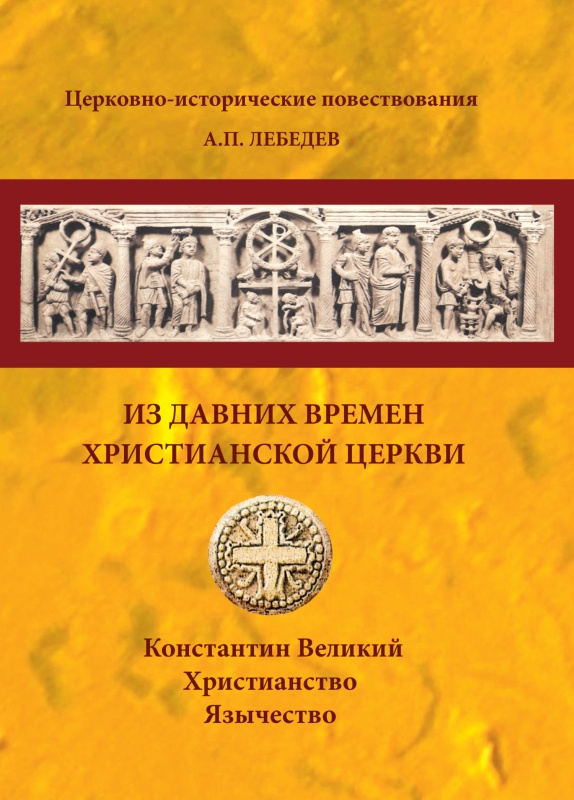Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Входит в фундаментальный многотомный труд «Всемирная История Еврейского Народа. От древнейших времен до настоящего». В 10 тт. (История еврейского народа на Востоке, История Евреев в Европе, Новейшая история еврейского народа), который издавался на русском языке в Риге в 1936-1939 гг.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Семен Маркович Дубнов»: