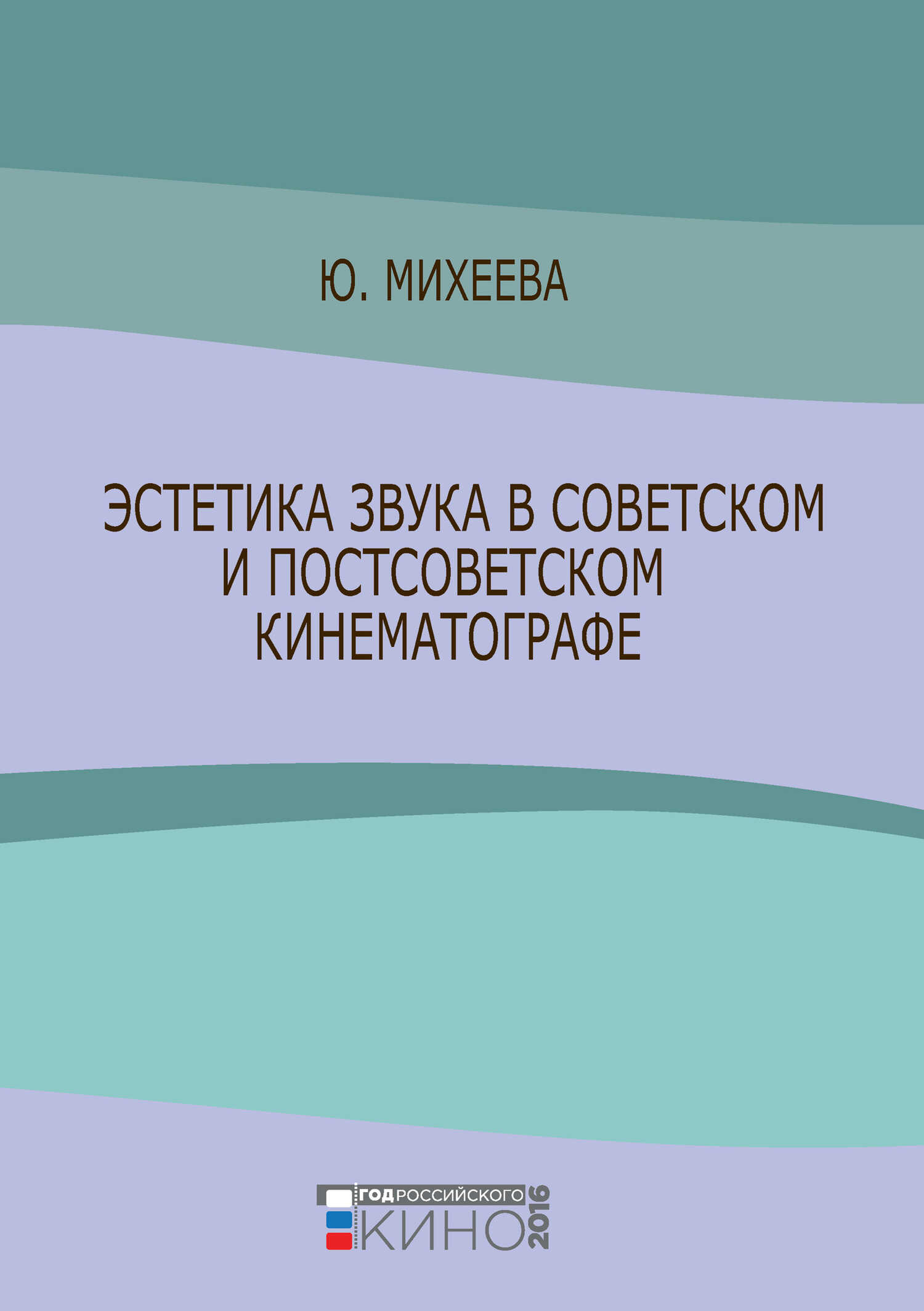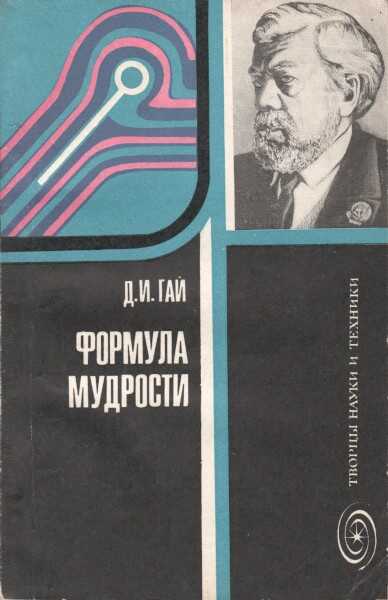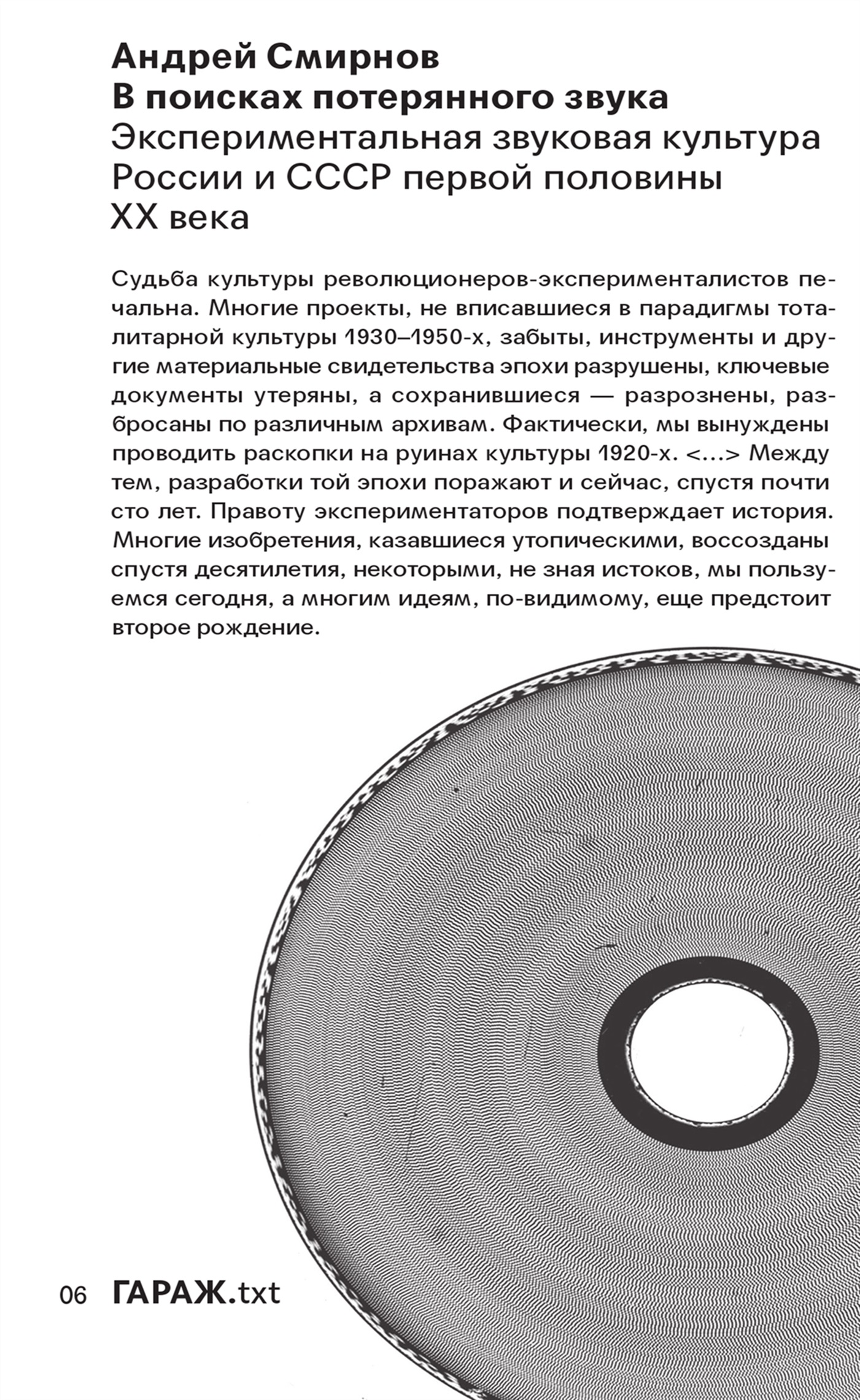Шрифт:
Закладка:
Монография посвящена многоаспектному рассмотрению звука в отечественном кинематографе. Начиная с первых десятилетий существования кино, интерес теоретиков к этой области кинотворчества сводился к двум общим вопросам: что делает звук в фильме? (т.е. каковы смыслы соединения звука с визуальным рядом, функционирования звука в кадре и за кадром) и как звук это делает? (т.е. каковы формы и способы образования этих смыслов). С развитием и усложнением художественного языка киноискусства, в особенности с появлением авторского кинематографа, включенного в обширное поле интертекстуальных связей, перед исследователем с неизбежностью встает и еще один вопрос: почему так в фильме использован звук? Автор пытается ответить на этот вопрос, вникая в специфику режиссерской эстетики. Книга адресована теоретикам и практикам кино, студентам высших учебных заведений в сфере кинематографии, а также читателям, интересующимся теоретическими проблемами киноискусства.