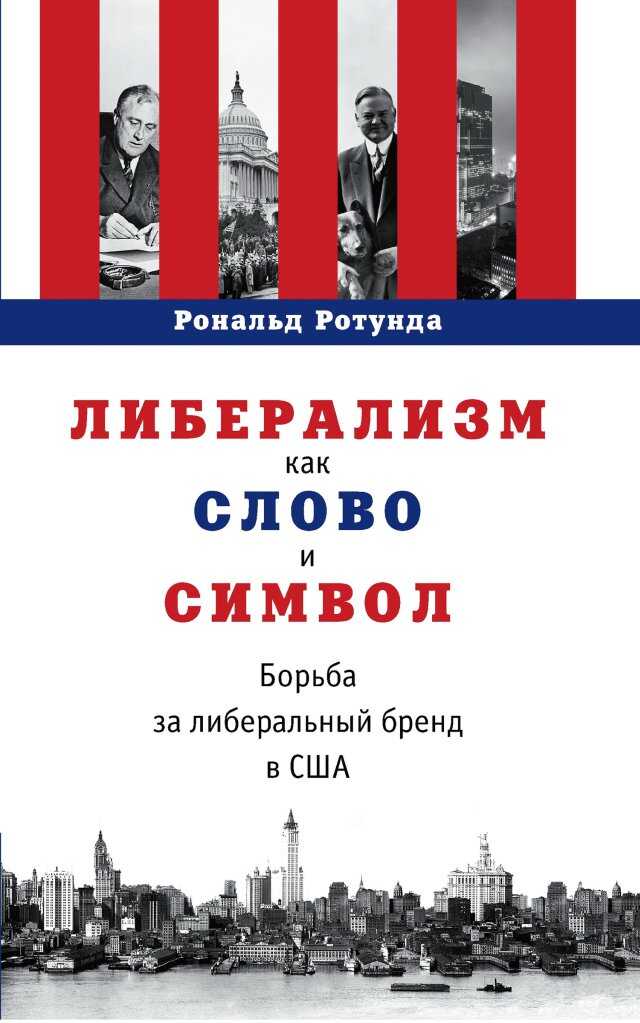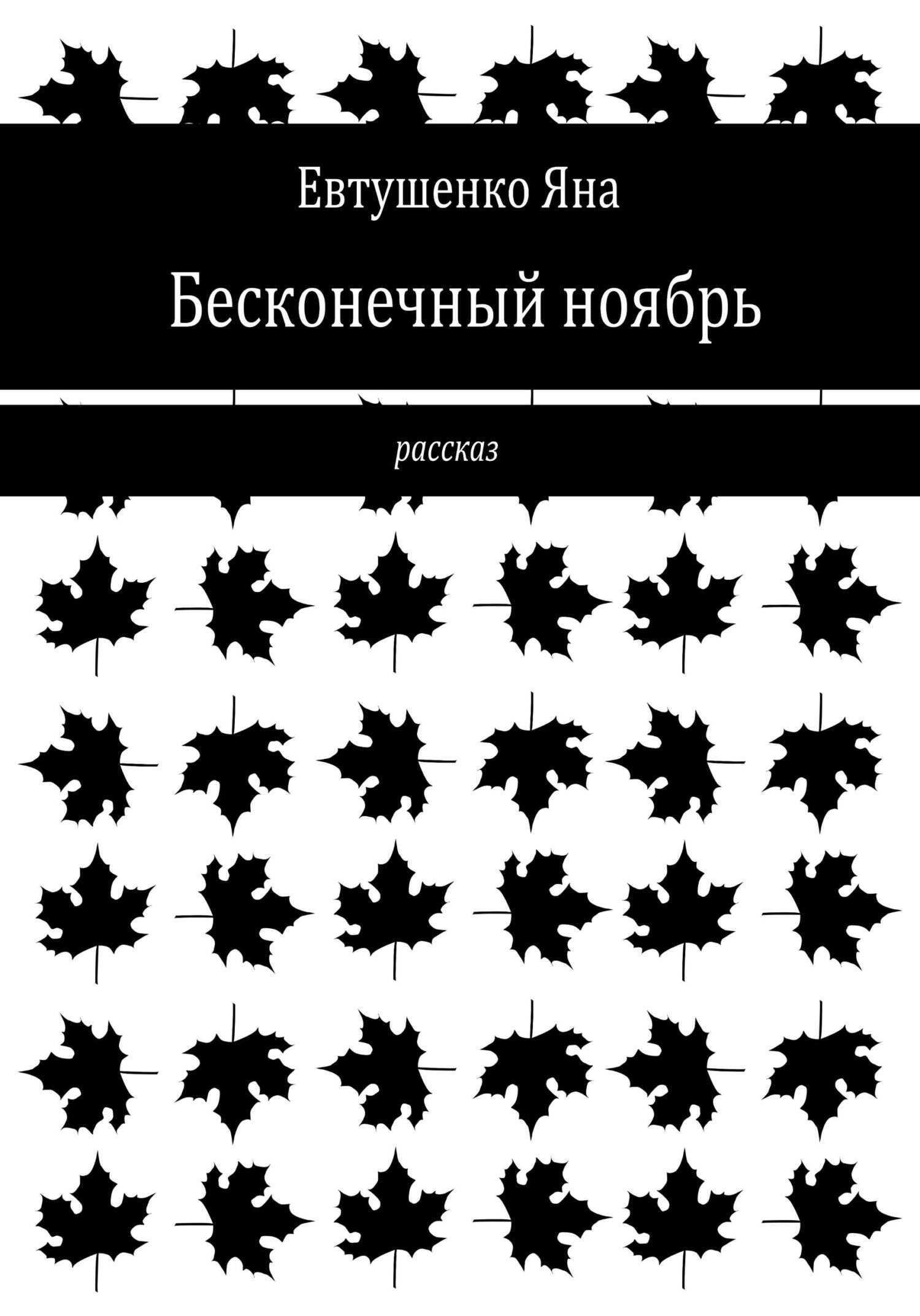Шрифт:
Закладка:
Холодной ноябрьской ночью 1933 года сотрудника оперативного отдела ОГПУ Александра Большакова вызвали на место преступления. В своем доме профессиональным ударом шила был убит объект агентурной разработки по прозвищу Меховщик. Оперативники выяснили, что Меховщик ждал прибытия важной персоны — представителя белой эмиграции, эмиссара из Парижа. Вероятнее всего, эмиссар и был убийцей: на месте преступления он по неосторожности наступил в лужу крови и оставил след. Группа ОГПУ сумела выследить подозреваемого на вокзале. «Француз» купил билет в мягкий вагон скорого поезда на Москву. И тогда срочно было принято решение: в это же купе подсадить оперативника, довести шпиона до Москвы и там передать под контроль местных коллег. Но дерзкий план внезапно дал осечку… Основано на реальных событиях. Использованы архивные документы ОГПУ.