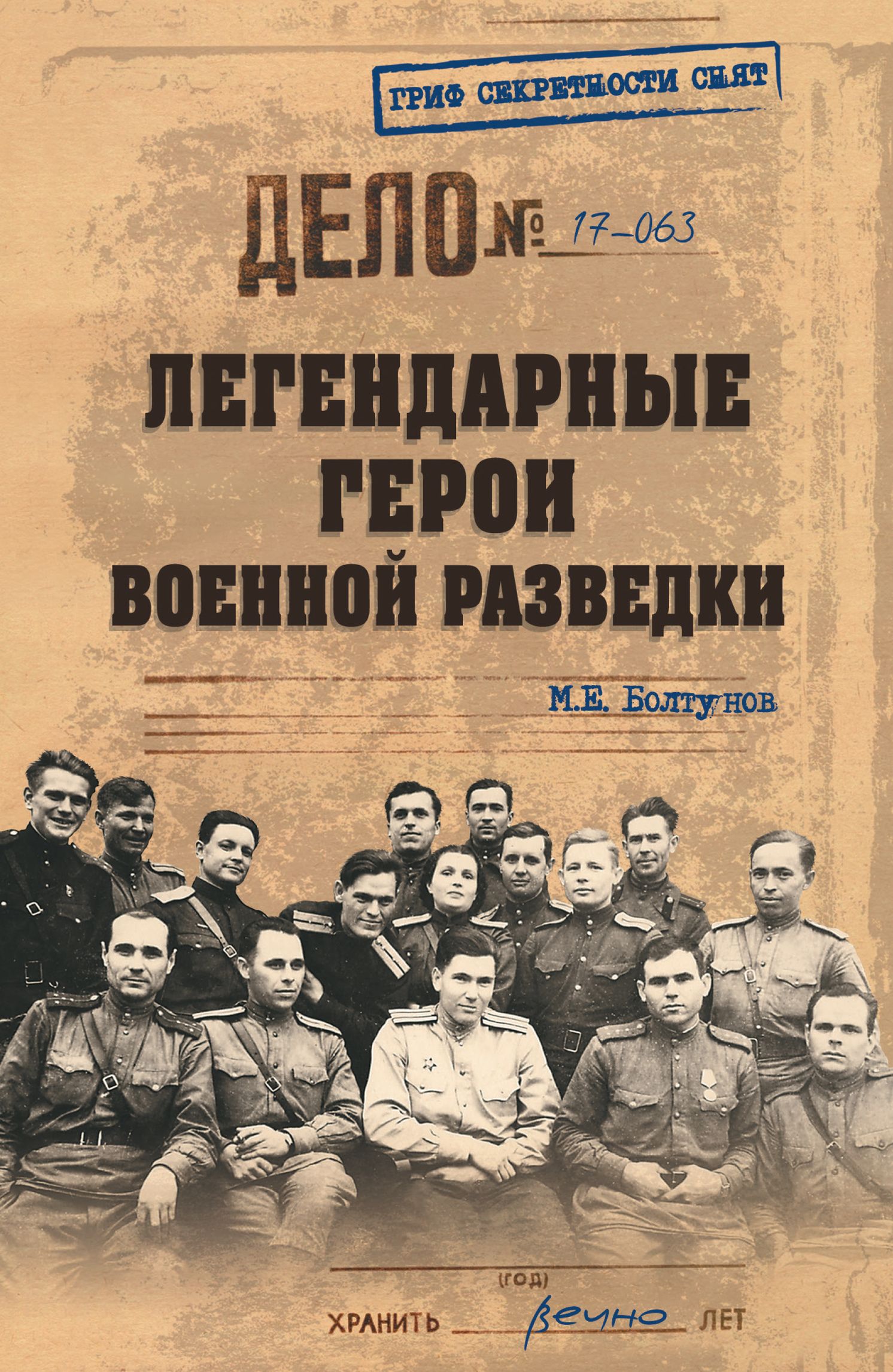Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Пронзительный личный рассказ военного советника во вьетнамском уезде, который обнаружил, что вьетконговцы являются грозным противником. The New York Times
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Стюарт Херрингтон»: