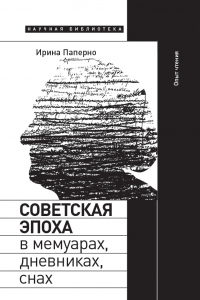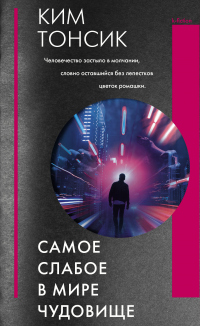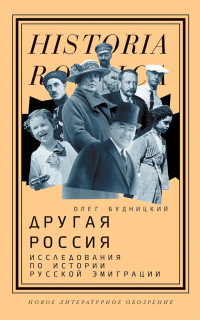Шрифт:
Закладка:
В воспоминаниях И.Я.Столярова дана широкая панорама жизни крестьян села Карачун на протяжении последней трети 19 в. Автору хорошо знакомы события, о которых он пишет, т.к. многие из них отражают факты его биографии. Органично включены в повествование рассказы старших членов семьи о прошлом. «Записки русского крестьянина» содержат богатейший материал по истории календарных праздников, народных верований, бытового православия, материальной культуры, местных кустарных промыслов.«Записки русского крестьянина» И.Я.Столяров писал в эмиграции до последних дней своей жизни. Их текст отредактировать он не успел. Вся последующая работа по приведению записей в определённую систему, правке текста, составлению примечаний легла на его жену - Валерию Эдуардовну Столярову. Первое издание на русском языке состоялось благодаря Институту славянских исследований в Париже в 1986 году. Оно было снабжено обширными комментариями В.Э.Столяровой и А.Береловича и насчитывало 202 страницы. На французском языке «Записки» были опубликованы дважды: в 1981 году - парижским издательством «Синтаксис», в 1992 г. - издательством «Пион». В сокращённом варианте «Записки русского крестьянина» вышли в московском издательстве «Современник» в 1989 году