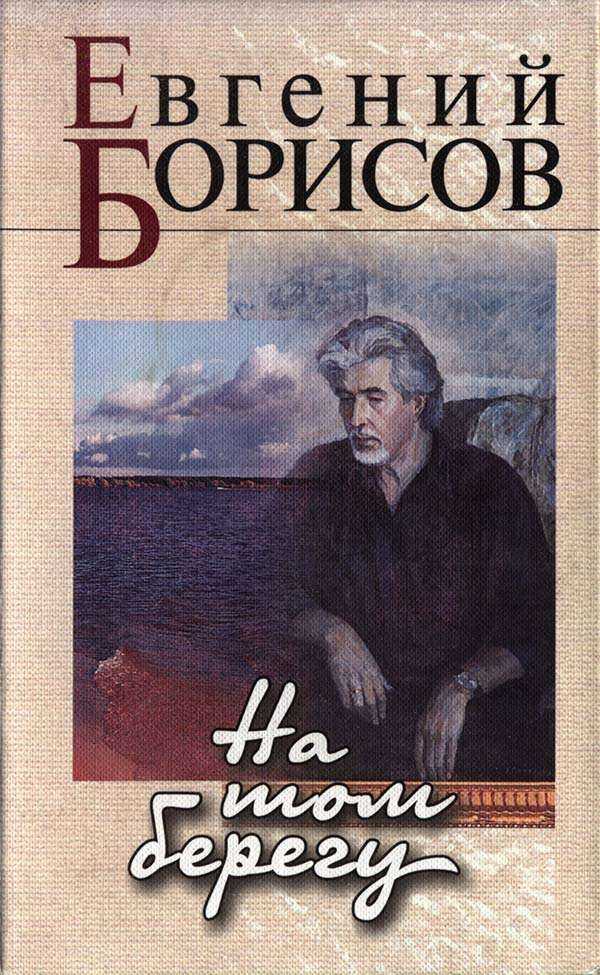Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В одной из африканских стран при невыясненных обстоятельствах погибает журналист-международник Юрий Парамонов — герой повести Евгения Борисова «Юрьев день». Проходят годы… В волжском городе, где начиналась журналистская карьера Юрия Васильевича, живут его бывшие друзья, ныне преуспевающие и, казалось бы, вполне благополучные люди. Однако неожиданный телефонный звонок из «прошлого» поселяет в их душах беспокойство и тревогу… О судьбах этих и других героев, о том, «Что было, что будет» с ними, вы узнаете со страниц новой книги писателя Евгения Борисова «На том берегу».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Евгений Иванович Борисов»: