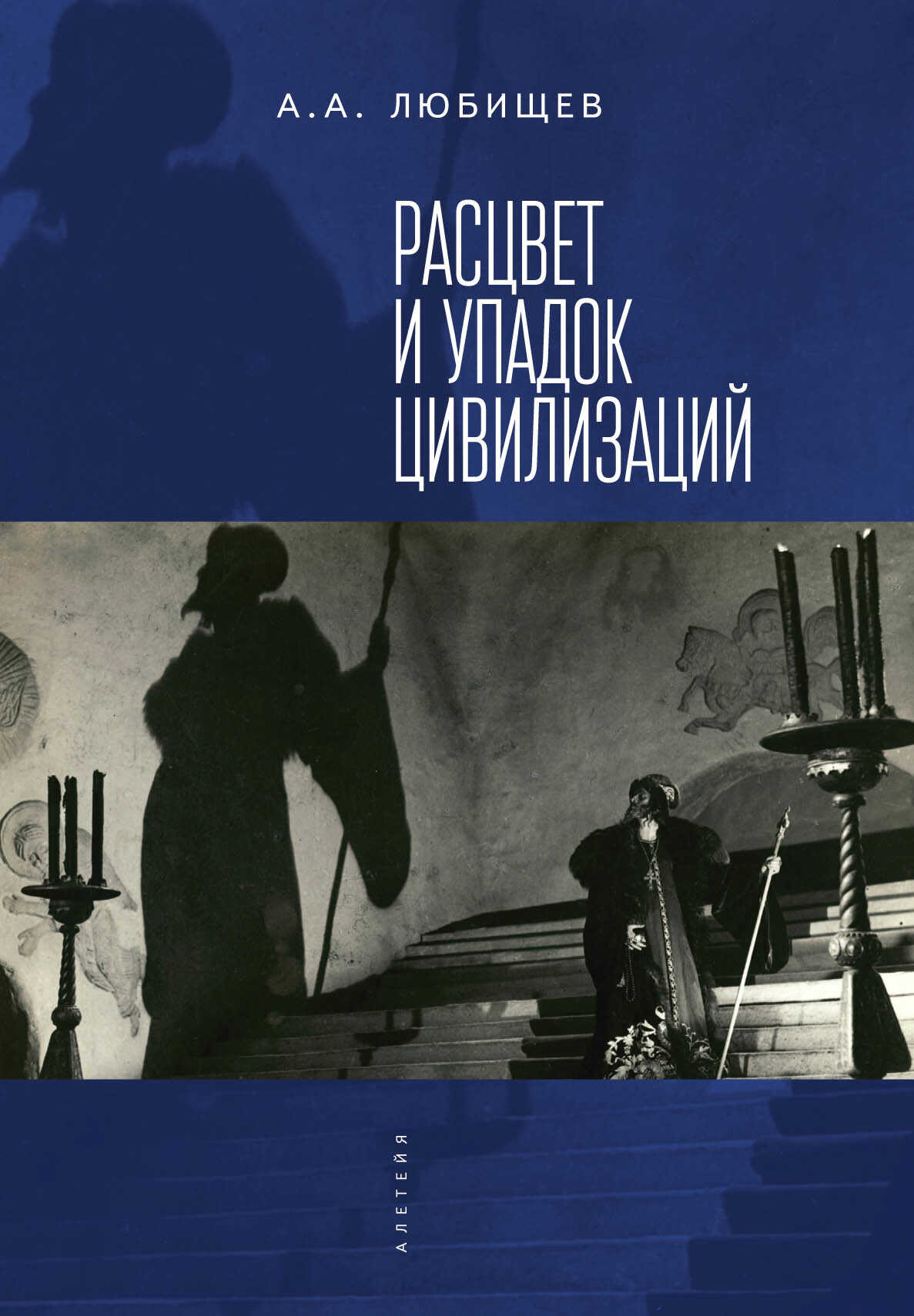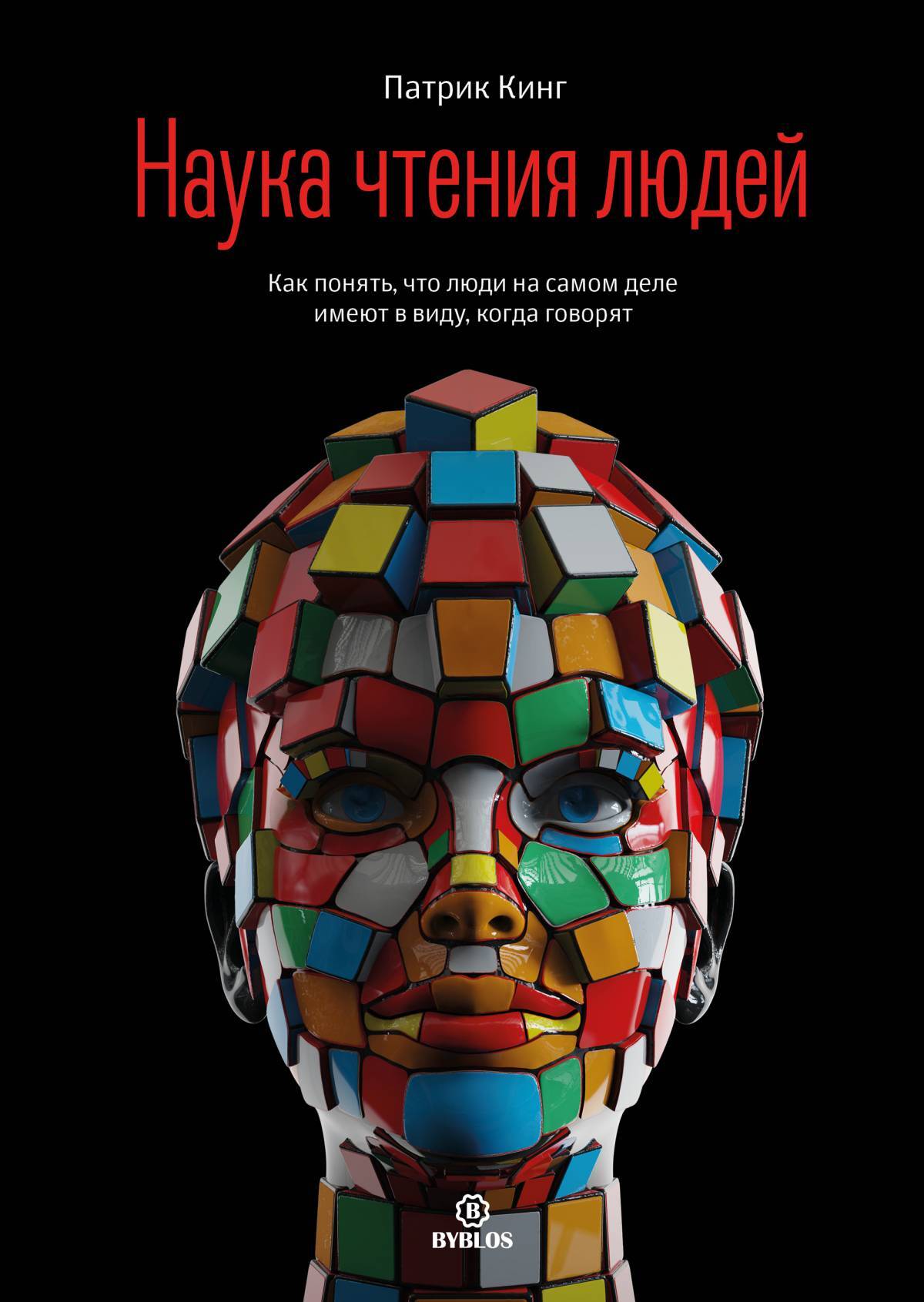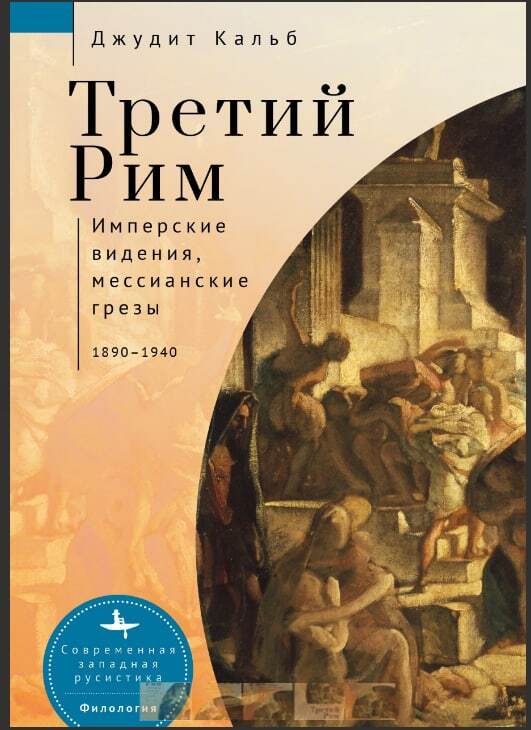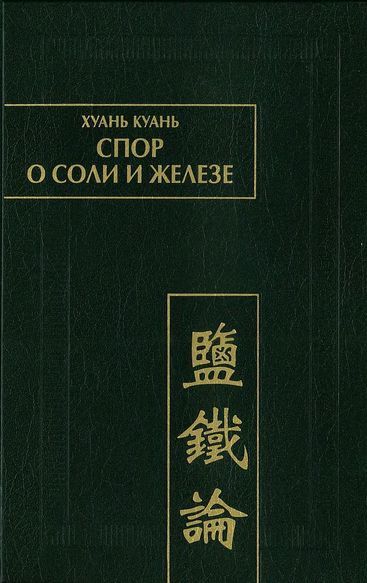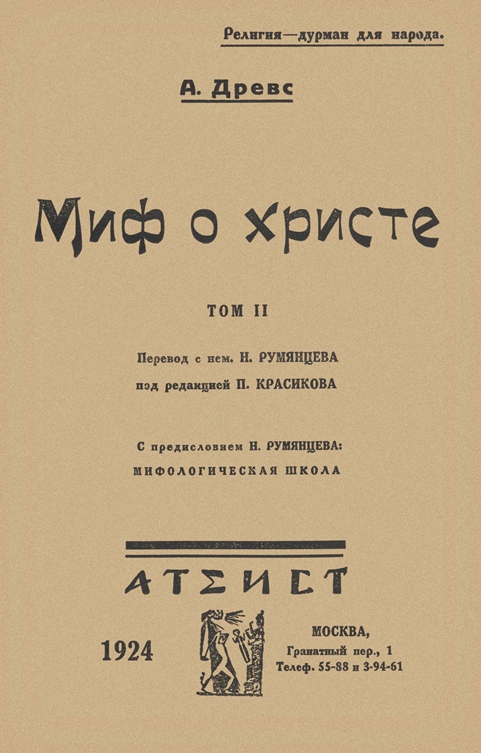Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Предлагаемый сборник исторических статей и материалов – важнейшая часть богатейшего духовного наследия А. А. Любищева, своего рода «дневник ученого», который включает в себя статьи по истории, культуре, литературе, мысли о прочитанных книгах, просмотренных пьесах и фильмах, а также переписку 1948–1969 гг. с учеными и друзьями.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Александрович Любищев»: