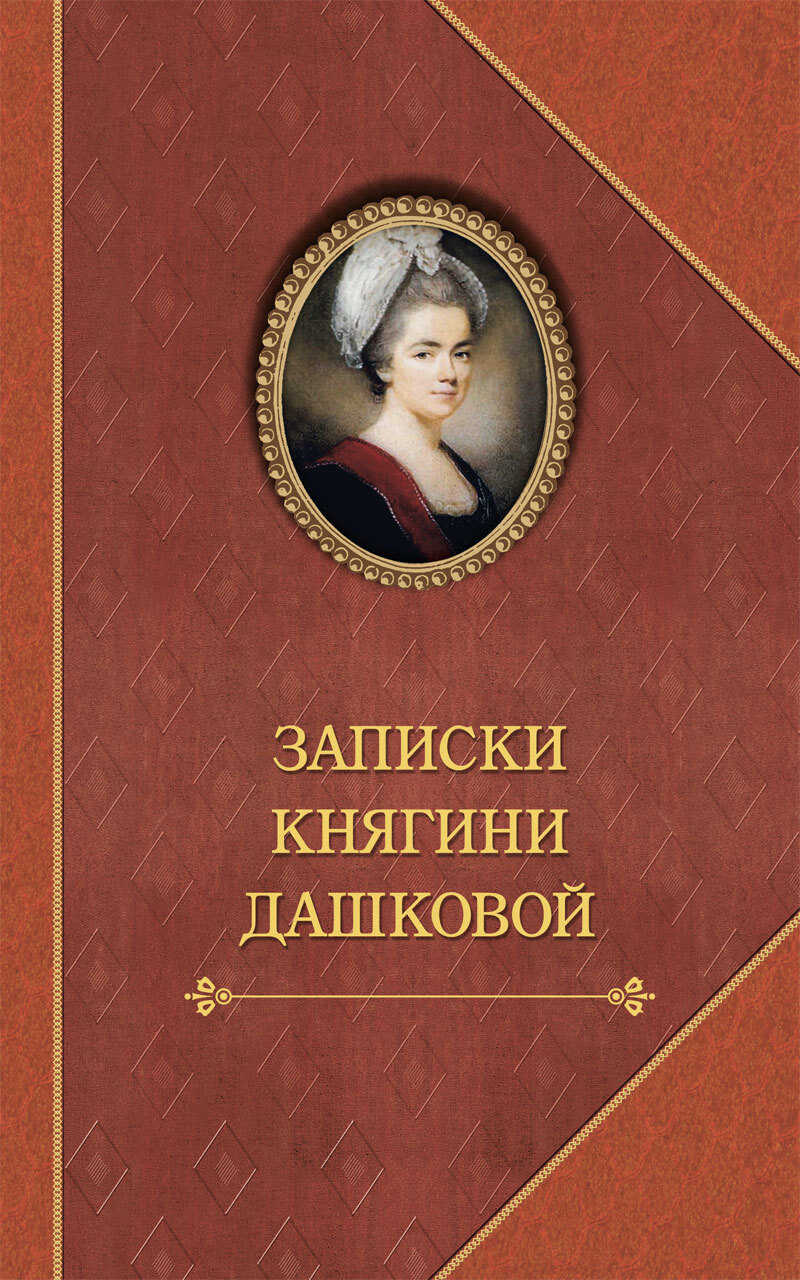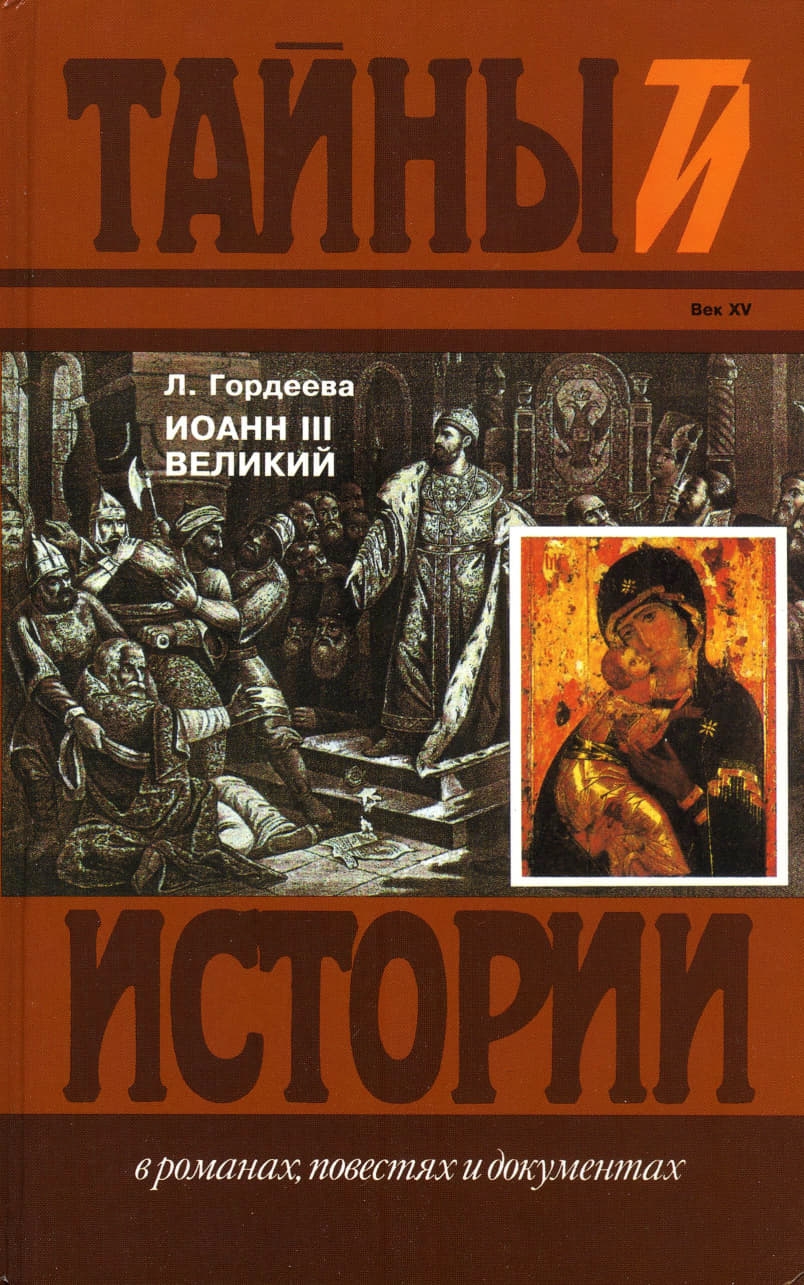Шрифт:
Закладка:
Сады свои и дворец в Москве она подарила государю. Зачем? Не знаю. Необъятные имения, заводы – всё пошло на украшение Юрьевского монастыря; туда перевезла она и гроб своего отца; там в особом склепе теплится над ним вечная лампада, шепчется молитва, там был приготовлен и ее саркофаг, еще пустой, когда я его видел. В ризах икон и в архимандритских шапках печально мерцают в церковном полусвете орловские богатства, превращенные в яхонты, жемчуга и изумруды. Ими несчастная дочь хотела закупить суд Божий.
А Екатерина отбирала у монастырей имения и раздавала их Орловым и другим любовникам. Немезида!
…Записки Дашковой нас оставляют около этого времени. Сами подробности о ее свидании с Орловым мы взяли из писем двух сестер Уилмот. Мэри Уилмот, тоскуя по потере своего брата и скучая дома, приняла предложение княгини Дашковой погостить у нее год-другой. Мэри не знала лично Дашковой, но, будучи племянницей госпожи Гамильтон, с детства была наслышана об этой необыкновенной женщине – о том, как она восемнадцати лет стояла во главе заговора, как носилась на коне перед возмутившимися полками, как потом жила в Англии и гостила в Ирландии, была президентом академии и писала страстные письма Гамильтон. Молодая девушка представляла себе ее чем-то фантастическим, «феей и отчасти колдуньей», и именно потому решилась (в 1803 году) к ней ехать.
Подъезжая к Троицкому, ей, впрочем, сделалось так жутко и не по себе, что она рада была бы воротиться, если б это было возможно.
Навстречу ей вышла небольшого роста старушка, в длинном, темном суконном платье, со звездой на груди слева и в чем-то вроде колпака на голове. На шее у нее был старый, затасканный платок: раз в сырую погоду вечером, на прогулке, за двадцать лет до того, госпожа Гамильтон повязала ей этот платок, с тех пор она его берегла как святыню. Но если наряд ее действительно сбивался на колдунью, то благородные черты лица и бесконечно нежное выражение взгляда с первого раза очаровали ирландку. «В ее приеме, – говорит она, – было столько истины, столько теплоты, достоинства и простоты, что я полюбила ее прежде, чем она сказала что-нибудь».
Госпожа Мэри Уилмот с первого дня совершенно под ее влиянием, сама удивляется этому, сердится на себя, но не может противостоять влечению к славной старушке. Ей всё нравится в ней, даже ее ломаный английский язык, придающий что-то детское ее речам. «Лета и жизнь, – говорит она, – успокоили и смягчили ее черты, и гордое выражение их, еще оставившее легкие следы, сменилось снисходительностью».
Но ведь как же и полюбила ее Дашкова! Она ее любит страстно, как некогда Екатерину. Свежесть чувств, их женская нежность, потребность любви и столько юности сердца в шестьдесят лет – изумительны. Внимательность матери, внимательность сестры, любовницы – вот что находит Мэри в Троицком; чтоб ее рассеять, Дашкова едет в Москву, возит ее по балам, показывает монастыри, представляет императрицам, украшает цветами ее комнату, проводит вечера с ней, читая письма Екатерины и других знаменитостей.
Госпожа Уилмот просит ее, умоляет писать свои «Записки». «И то, – говорит Дашкова, – чего я никогда не хотела сделать ни для родных, ни для друзей, я делаю для нее». Она ей пишет и посвящает свои «Записки».
В 1805 году Дашкова выписала сестру Мэри, Кэтрин, которая была тогда во Франции и должна была ее покинуть, преследуемая в качестве англичанки. Сестры нисколько не похожи друг на друга. Мэри – существо нежное, кроткое, обрадовавшееся, что есть к кому прислониться, согреться под чьим-то крылом; она привязывается к Дашковой, как слабый плющ к старому, но крепкому дереву; она ее называет ту Russian mother[86]] она приехала к ней из маленького городишка и ничего не видела прежде, кроме своего «изумрудного острова». Ее сестра, живая и вспыльчивая, независимая во мнениях, жившая в Париже, умная и насмешливая, без особенной любви и терпимости, развязнее на язык. К тому же ей положительно многое не нравится в России, и потому ее письма исполнены для нас своего рода интереса.
«Россия, – говорит она, – похожа на двенадцатилетнюю девочку – дикую, неловкую, на которую надели парижскую модную шляпку. Мы живем здесь в XIV или XV столетии»[87]. Крепостное состояние поражает ее гораздо больше, чем добродушную ее сестру. Напрасно Дашкова показывает ей благосостояние своих крестьян. «Им хорошо при княгине, – пишет Кэтрин, – но каково будет после?» Каждый помещик кажется ей одним из железных колец, которыми скована Россия.
В жалком подобострастии, в позорном раболепии нашего общества она очень справедливо находит отражение рабства. Она с изумлением видит в залах и гостиных опять холопов без всякого нравственного чувства собственного достоинства. Ее удивляют гости, которые не смеют садиться и часы целые стоят у дверей, переступая с ноги на ногу, которым кивают, чтоб они ушли. «Понятие добра и зла смешивается в России с понятием быть в милости или в немилости. Достоинство человека легко определяется по адрес-календарю, и от государя зависит, чтоб человека принимали за змею или за осла».
Московские тузы не запугали ее млечным путем своих звезд, своей тяжеловатой важностью и скучными своими обедами. «Мне кажется, – пишет она после праздников 1806 года, – что я все это время носилась между тенями и духами Екатерининского дворца. Москва – императорский политический элизиум России. Все особы, бывшие в силе и власти при Екатерине и Павле и давно замещенные другими, удаляются в роскошную праздность ленивого города, сохраняя мнимую значительность, которую им уступают из учтивости. Влияние, сила давно перешли к другому поколению, и тем не менее обер-камергер императрицы Екатерины II князь Голицын всё так же обвешан регалиями и орденами, под бременем которых склоняются еще больше к земле его девяносто лет от роду; всё так же, как во дворце Екатерины, привязан бриллиантовый ключ к его скелету, одетому в шитый кафтан, и всё так же важно принимает он знаки уважения своих товарищей-теней, разделявших с ним во время оно власть и почести.
Рядом с ним другой пестрый оборотень (gaudy revenant) граф Остерман, некогда великий канцлер; на нем висят ленты всевозможных цветов – красные, голубые, полосатые; восемьдесят три года отразились на его лице, а он все еще возит цугом свой стучащий кость об кость остов, обедает с