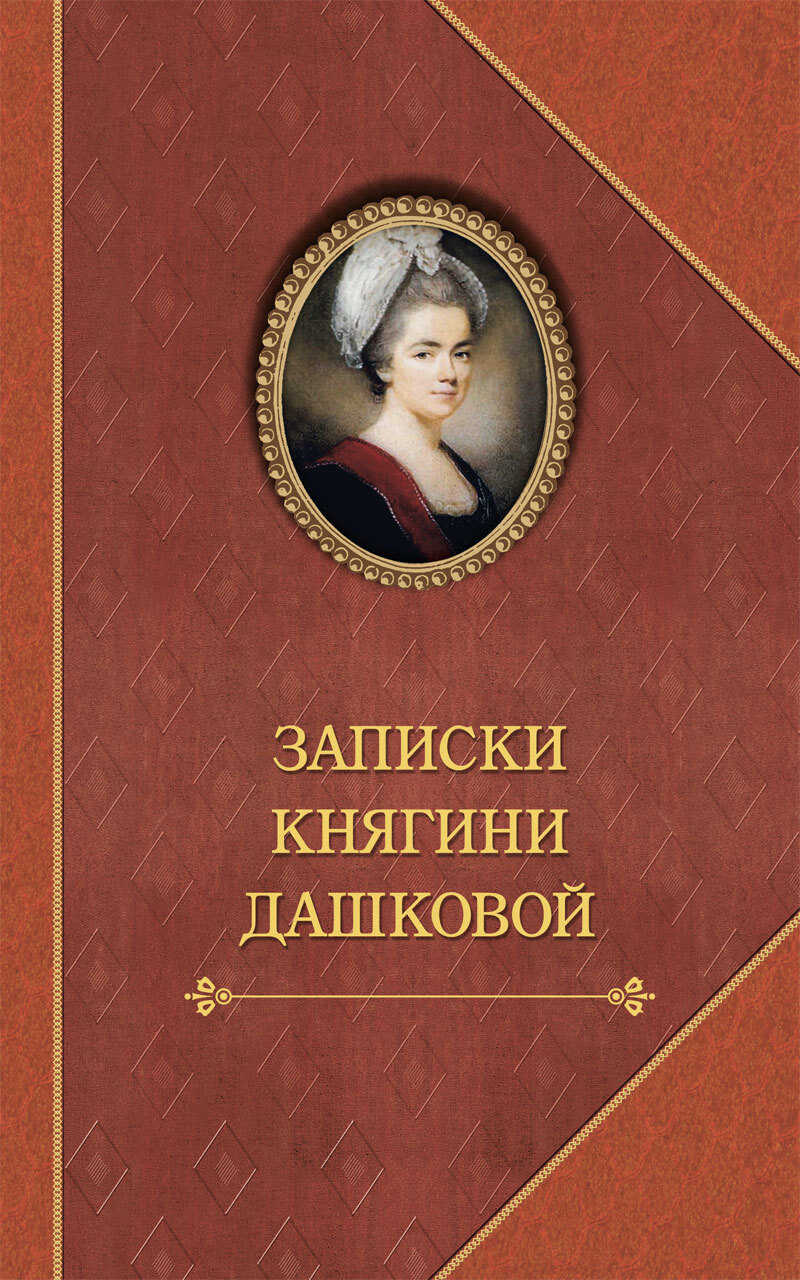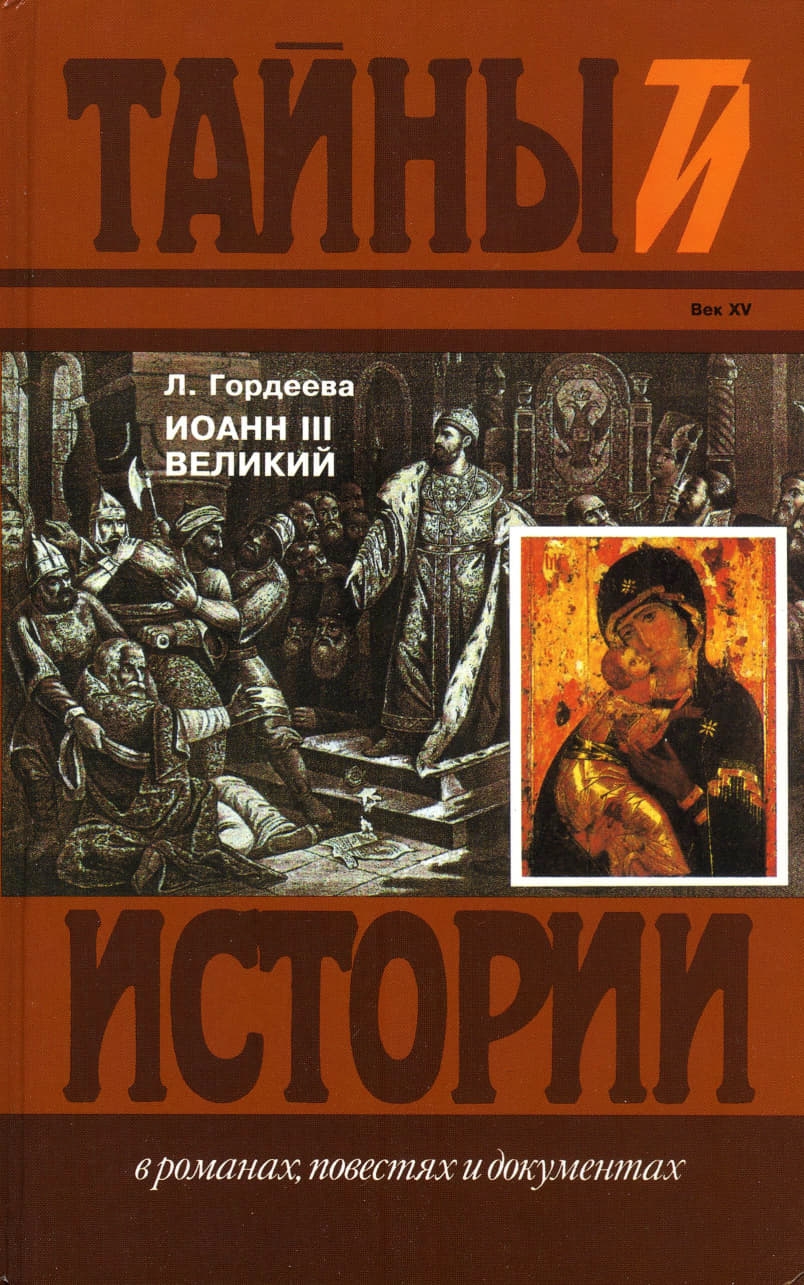Шрифт:
Закладка:
Дашкова отвечала, что она готова исполнить волю государя и ей совершенно безразлично, где она окончит свои дни, но что она совсем не знает ни этого имения, ни дороги туда и ей надобно выписать из Москвы или управляющего ее сына, или какого-нибудь крестьянина из той деревни, знающего проселочные дороги.
Собравшись и достав проводника, Дашкова поехала зимой, в стужу, и притом на долгих, в свою ссылку, окруженная архаровскими шпионами, сопровождаемая добрым родственником своим Лаптевым, которого она не могла уговорить, чтоб он не ездил и не подвергался страшным гонениям опьяненного самовластия. Но как первое условие помешательства состоит именно в непоследовательности, то Дашкова тут ошиблась, и когда Павлу донесли о том, что Лаптев ее провожал, он сказал: «Это не такая юбка, как наша молодежь, он умеет носить штаны».
Обыкновенно подобного рода мимолетным проблескам человеческого чувства у Павла и других дают гораздо больше цены, чем они заслуживают. Что сделал бы Павел, если б вся молодежь умела «носить штаны» так, как Лаптев? Разве у него мало было Архаровых, Аракчеевых, Обольяниновых, чтоб их пытать, ковать в цепи и ссылать? Пален и Бенигсен показали ему, впрочем, что «носить штаны» можно еще лучше! В этих оправданиях жертв лежит последнее, довершающее оскорбление; ими злодеи примиряются со своей совестью. Потемкин раз при Сегюре ударил какого-то полковника и, спохватившись, сказал послу: «Как же с ними иначе поступать, когда они всё выносят?» А как отвечал бы Потемкин на пощечину или на вызов?..
Дашкова поселилась в крестьянской избе; для дочери заняли другую, а третью – для кухни. К прочим неудобствам этой жизни в захолустье присоединилось то, что для сокращения дороги зимой ссыльных в Сибирь из Петербурга водили мимо окон Дашковой. Образ одного молодого офицера долго преследовал ее. Это был какой-то дальний родственник ее; узнав, что Дашкова тут, он пожелал ее видеть; как ни опасно было такое свидание, но она приняла его. Судорожное подергивание лица и болезненный вид поразили Дашкову; это было следствие пыток, которыми были свихнуты и раздавлены его члены. Что же сделал этот преступник? Он в казарме что-то сказал о Павле, и на него донесли. А ведь, может, и он хорошо «носил штаны» до тех пор, пока не свихнули ему рук!
Перед весенним разливом рек, которые на долгое время отрезали бы Дашкову от всяких сообщений, она написала письмо императрице Марии Федоровне и вложила в него просьбу о разрешении ей переехать в калужскую деревню. Тон письма ее к Павлу не мог ему понравиться; она говорила, что, может, столь же недостойно ей писать это письмо, сколь недостойно его читать, но религия и человеколюбие ставят ей в обязанность сделать последний опыт, чтоб избавить всех своих от тяжелой ссылки.
Павел, по обыкновению, взбесился и велел отобрать у Дашковой бумагу и чернила, воспретить ей всякую переписку, усилить надзор и не знаю что еще. «Меня, – говорил он, – не так легко свергнуть с престола». С этим был отправлен курьер. Но императрица и Нелидова подучили великого князя Михаила Павловича умилосердить разъяренного отца, и новый фон Амбург[82], с помощью жены и любовницы, преуспел. Павел схватил перо и написал: «Княгиня Екатерина Романовна, так как вы желаете возвратиться в ваше калужское имение, то я вам оное разрешаю; пребываю к вам благосклонный Павел». Пришлось Архарову отправлять другого курьера; по счастью, второй обогнал первого.
В 1798 году Павел вдруг полюбил князя Дашкова, осыпал всякими незаслуженными милостями и подарил ему имение. Дашков просил Куракина доложить Павлу, что он желает вместо имения разрешить его матери жить там, где она хочет. Павел разрешил, с тем чтоб она никогда не оставалась в том же городе, где он.
Мать была прощена. Теперь пришла очередь сына. Судили какого-то Альтести за злоупотребления, а главное, за его близость с Зубовым. Дашков сказал Лопухину, что Альтести прав, и вечером он получил следующую цидулку: «Так как вы мешаетесь в дела, до вас не касающиеся, то я вас отставил от вами занимаемых должностей. Павел». Дашков, боясь худшего, отправился в свое тамбовское имение.
Наконец, 12 марта 1801 года жизнь Павла «пришла к концу», как говорит Дашкова; она с умилением и глубокой радостью узнала, что этот вредный человек перестал существовать. «Сколько раз, – продолжает она, – благодарила я Небо за то, что Павел сослал меня, он меня спас этим от унизительной обязанности являться при дворе такого государя».
При Александре она снова свободно вздохнула… При его дворе ей можно было явиться, не отказываясь от своего человеческого достоинства, но она уже не чувствует себя дома в новой среде. Многое переменилось с тех пор, как Екатерина посылала ей счет портного. Старуха Дашкова сердится на молодое поколение, окружающее Александра, и находит, что все они или якобинцы, или капралы. Однако светлое явление останавливает ее, и она с почтительной любовью, с благоговением смотрит на него; грустное и никем не оцененное, это задумчивое существо печально прошло залами Зимнего дворца и исчезло как тень; о нем забыли бы, если б иной раз мы не встречали на стенах известной картины 1815 года, представляющей императора Александра I с императрицей Елизаветой Алексеевной примирителями Европы.
К «Запискам» Дашковой госпожа Уилмот приложила прекрасно сделанный портрет Елизаветы Алексеевны; несчастная женщина стоит, сложив руки; грустно смотрит она с бумаги; внутренняя печаль и какое-то недоумение видны в глазах, вся фигура выражает одну мысль: «Я здесь чужая»; она даже как-то так подобрала платье и складки, как будто сейчас готова уйти. Какая странная судьба ее и Анны Павловны – жены цесаревича![83]
После коронации Дашкова увидела, что ей нет места при новом дворе, и стала собираться на покой в Троицкое. В своем почетном удалении она снова становится властью. К ней ездят родные и знакомые, потухающие знаменитости и восходящие светила.
…Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
…………………………………………………………
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор