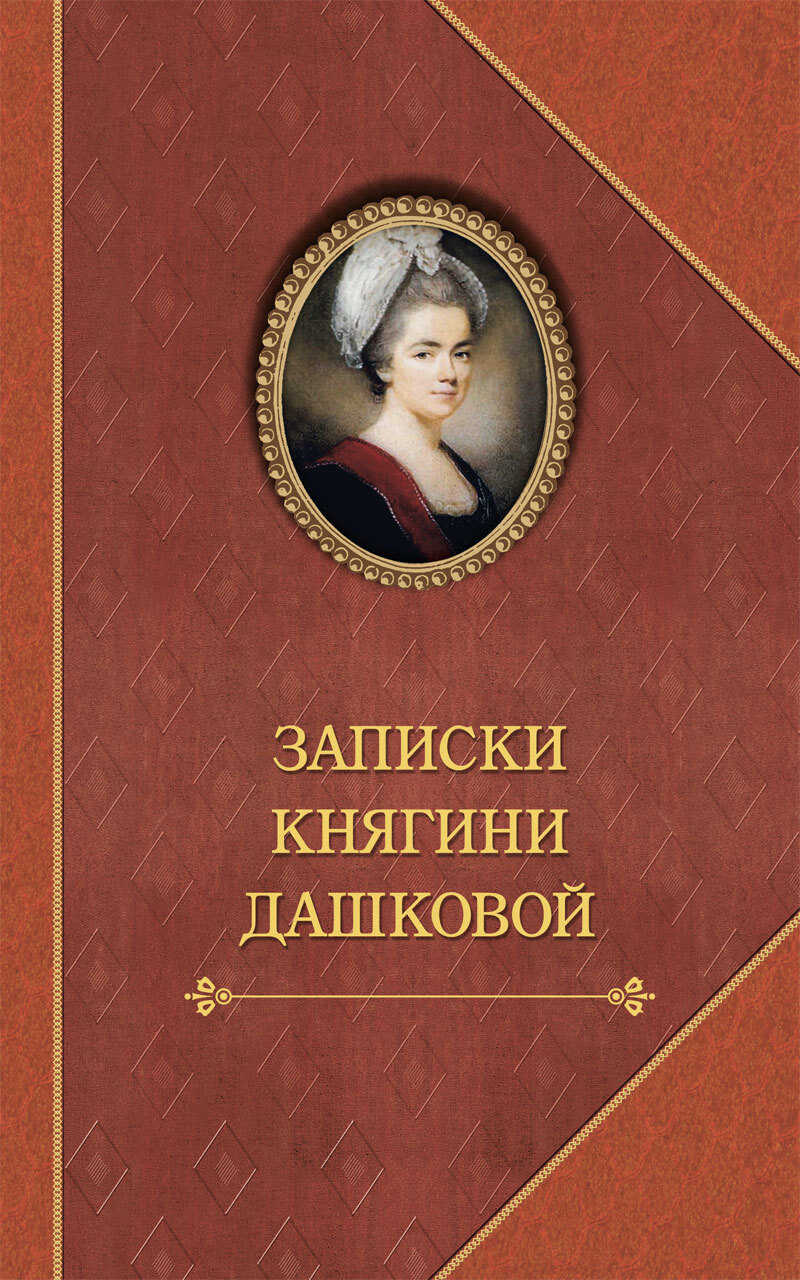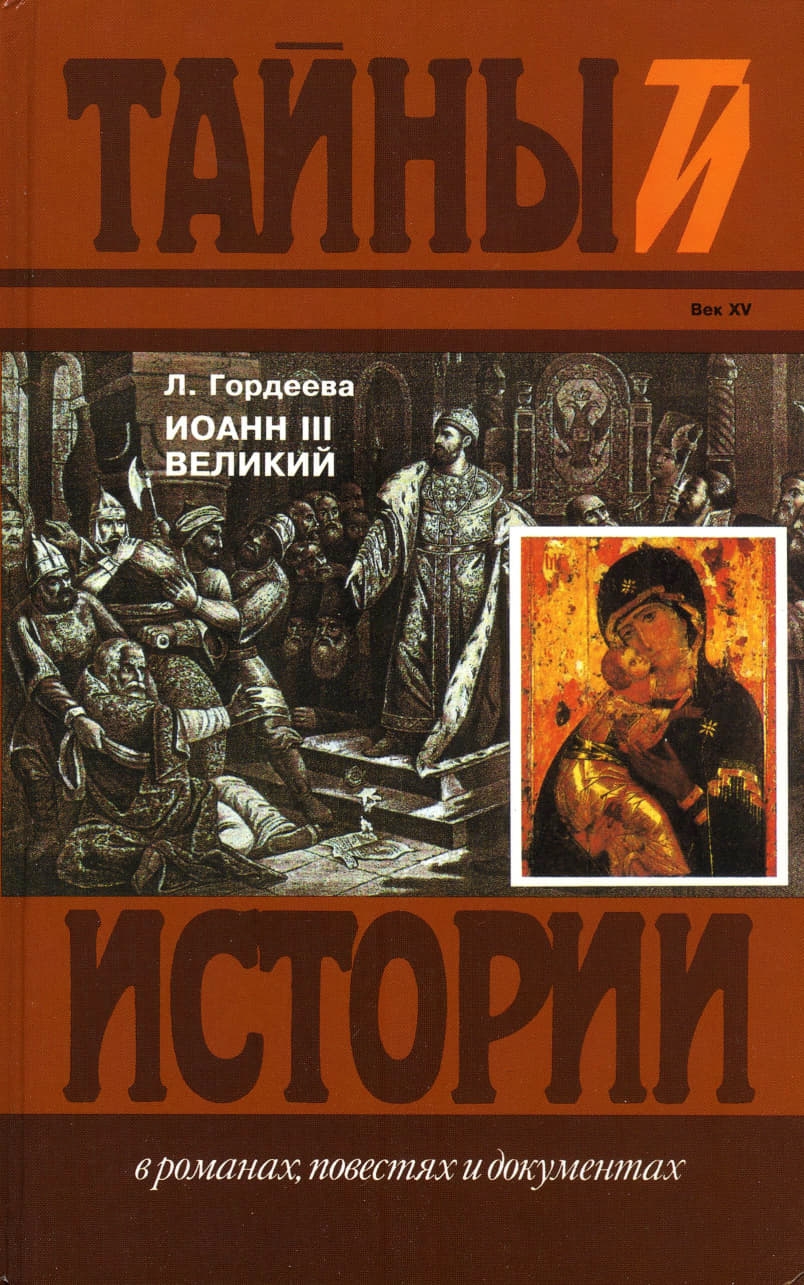Шрифт:
Закладка:
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.
А. С.Пушкин. К вельможе
Сама Дашкова часто наезжала в Москву, где пользовалась большим уважением, царила как законодательница тона и вкуса; вечно деятельная и неутомимая, она являлась на балы и обеды, и притом всех раньше. Молодые дамы и барышни трепетали от ее суда и замечаний, мужчины добивались чести быть ей представленными.
На другом краю Москвы, недалеко от Донского монастыря, во дворце, окруженном садами, доживал свой век другой живой памятник екатерининских времен. Жил он угрюмо, сохраняя, вопреки годам, свое атлетическое сложение и дикую энергию своего характера. В 1796 году он с нахмуренным челом, но без раскаяния пронес по всему Петербургу корону человека, им задушенного[84]; сотни тысяч человек указывали на него пальцем; его товарищ, князь Барятинский, бледнел и был близок к обмороку; старик же жаловался только на подагру. Но суровая жизнь его не должна была пройти несогретою. Возле него подрастала девочка, кроткая, нежная, необыкновенно грациозная и исполненная талантов. Ею надменный старик стал жить сердцем; он сделался ее няней, холил ее, берег, ухаживал за нею и любил безмерно, как только могла бы ее любить покойная мать. Сидя на своем диване, он заставлял свою дочь плясать по-цыгански и по-русски, с упоением и внутренней гордостью следил за ее движениями, утирая иногда слезу с глаз, которые сухо и жестокосердо видали столько ужасов.
Пришло наконец время старику вывести в свет свое сокровище. Но кому поручить ее, в чье женское покровительство отдать этот береженый цветок? Есть, правда, одна женщина, которой бы он поверил, которая могла бы со своим необыкновенным тактом направить ее первые шаги. Это княгиня Дашкова; но они в ссоре. Она не простила ему, что сорок два года тому назад он запятнал ее революцию.
И вот надменный Алексей Григорьевич Орлов, Орлов-Чесменский, которого и Павел не сломил, заискивает милостивого приема у княгини Екатерины Романовны и, получив дозволение представить ей свою дочь, торопится с радостью воспользоваться им и едет к ней со своей Аннушкой.
Дашкова вышла к нему навстречу; кланяясь, целовал старик у нее руку; оба были взволнованы. Наконец Дашкова сказала ему: «Так много времени прошло с тех пор, как мы не видались с вами, граф, и столько событий изменили мир, в котором мы некогда жили, что мне, право, кажется, что мы теперь встречаемся тенями на том свете. Присутствие этого ангела (прибавила она, с чувством прижимая к груди дочь своего бывшего врага), вновь соединяющего нас, еще больше поддерживает эту мысль».
Орлов в восторге, целует руку у госпожи Уилмот, которая его боится, несмотря на то, что называет «величавым старцем»; она с удивлением видит на его груди портрет Екатерины, покрытый одними бриллиантами, гайдуков, стоящих в передней, и с ними карлу, шутовски одетого.
Граф зовет Дашкову к себе и устраивает один из тех баснословных пиров, о которых мы слыхали предания в детстве, – пиров, напоминающих Версаль и Золотую Орду. Сады горят огнями, дом настежь, толпы дворовых в богатых маскарадных костюмах наполняют залы, музыка гремит, столы ломятся, словом, пир горой. Ему есть кому теперь поручить свою дочь!
В разгар пиршества отец ее зовет; делается круг, и она пляшет – пляшет с шалью и пляшет с тамбурином, пляшет по-русски; старик бьет такт и смотрит в глаза Дашковой. Старуха довольна, толпа молчит, благоговея перед чином отца и необычайной грацией дочери. «Она танцевала, – говорит госпожа Уилмот, – с такой простотой, с такой природной прелестью, с таким достоинством и выражением, что ее движения казались ее языком».
После каждого танца она бежит к отцу и целует его руку; Дашкова ее хвалит, отец велит ей поцеловать и у нее руку… Но ему показалось, что она разгорячилась, и он старательно сам закутывает ее в шаль, чтоб она не простудилась.
За ужином, при громе труб и литавр, граф стоя пьет здоровье Дашковой; потом раздаются ее любимые русские песни, сменяемые целым оркестром. А тут грянул и польский, и Орлов ведет Дашкову в залу, где звуки роговой музыки удивляют нашу ирландку, никогда не слыхавшую этого приложения крепостного состояния к искусству. Наконец Дашкова собирается, и граф, кланяясь ей и целуя руку, благодарит за то, что она посетила его бедный домишко.
Так-то праздновал чесменский Орлов свое замирение со старушкой Дашковой, и так-то этот суровый, жестокий человек любит свою дочь.
Я и сам чуть не помирился с ним вместе с княгиней Екатериной Романовной. Дики были времена, в которые они жили, дики и поступки его; петровская Русь еще была в брожении, не будем же его судить строже Дашковой, и если на том свете много может молитва родителей, то на этом отпустим Орлову многое за любовь его к дочери.
А и ее судьба была странна. Я ее видел раза два мальчиком, потом видел в 1841 году в Новгороде; она жила возле Юрьева монастыря. Вся жизнь ее была одним долгим, печальным покаянием за преступление, не ею совершенное, одной молитвой об отпущении грехов отца, одним подвигом искупления их. Она не вынесла ужаса, который в нее вселило убийство Петра III, и сломилась под мыслью о вечной каре отца. Весь свой ум, всю орловскую энергию она устремила к одной цели и мало-помалу совершенно отдалась мрачному мистицизму и изуверству. Призванная по рождению, по богатству, по талантам на одно из первых мест не только в России, но и в Европе, она прожила свой век со скучными монахами, со старыми архиереями, с разными прокаженными, святошами, юродивыми.
Говорят, что после 1815 года немецкие владетельные принцы искали ее руки, она всем отказывала; Александр оказывал ей большое внимание, она удалилась от двора. Дворец ее больше и больше пустел и совсем замолкнул наконец; не раздавался уже в нем ни стук старинных чаш, ни хоры песенников, и никто не заботился больше о береженых скакунах. Одни черные фигуры бородатых монахов мрачно ходили по аллеям сада и смотрели на фонтаны – точно все еще продолжались похороны Алексея Григорьевича; и в самом деле, это была молитва об успокоении его души. В зале, где она кружилась и вилась цыганкой, в отроческой чистоте не понимая знойных движений азиатского танца, где плавно и потупя взор она плясала со стыдливо поднятой рукой наши томные, женственные пляски и где плакал грозный отец, глядя на нее, – там теперь сидел Фотий[85], ограниченный фанатик, говорил бессвязные речи и вносил еще больше ужаса в разбитую душу;