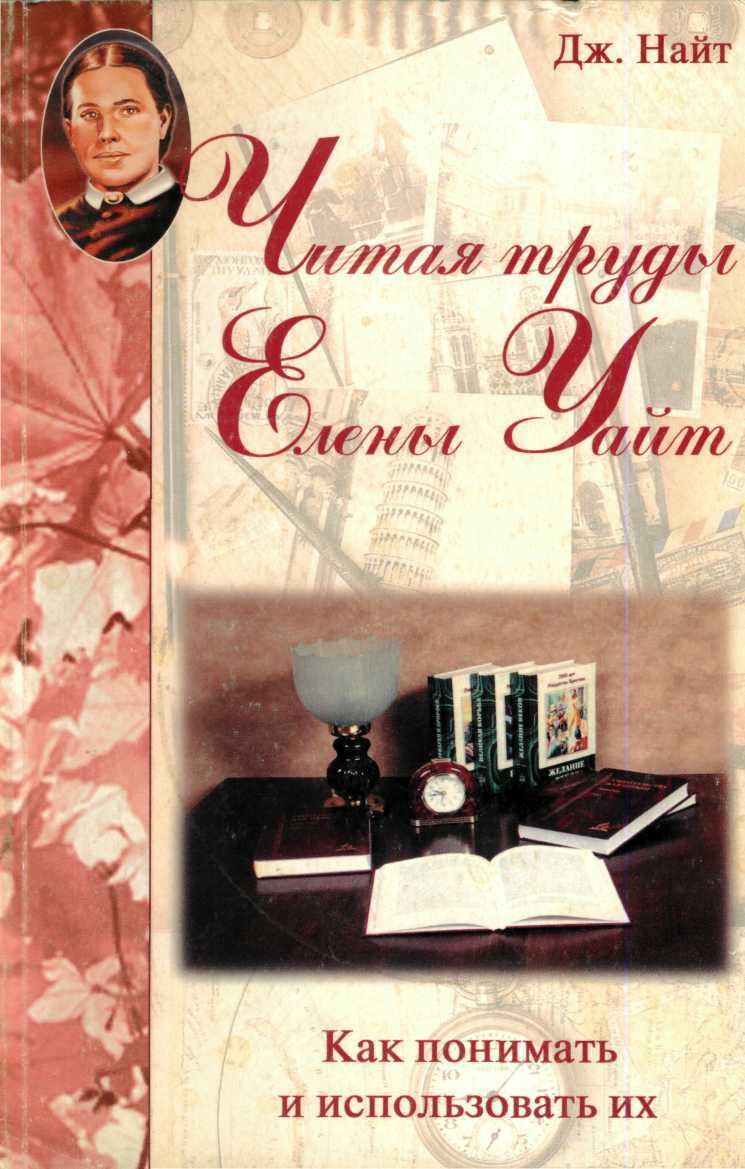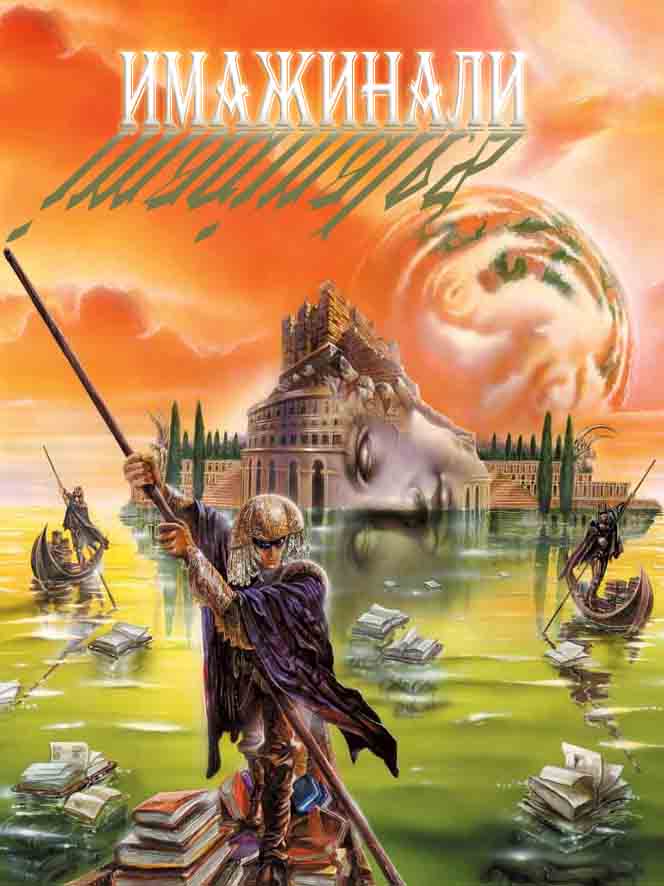Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Когда «Центурионы» были впервые опубликованы в 1960 году, читателей привлёк будоражащий рассказ о солдатах, которые сражались за выживание во враждебной среде. В той же мере их заворожил поставленный в романе леденящий душу моральный вопрос: как бороться, когда «эпоха героизма закончилась»? Как и полвека назад, «Центурионы» — захватывающее, по-прежнему актуальное военное приключение; развёрнутая беседа о том, как вести войну в условиях нового миропорядка; и важное исследование этики противоповстанческой борьбы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жан Лартеги»: