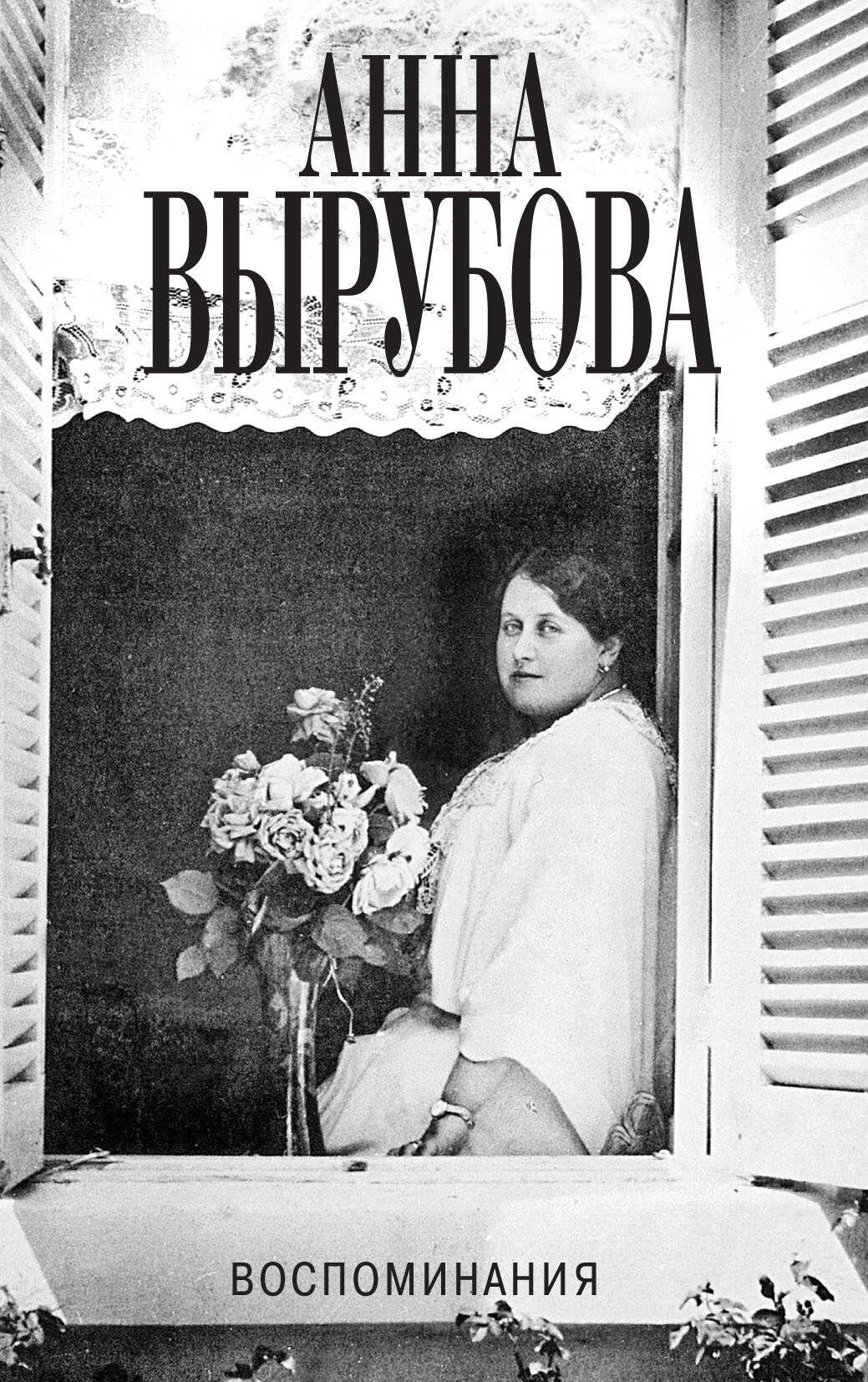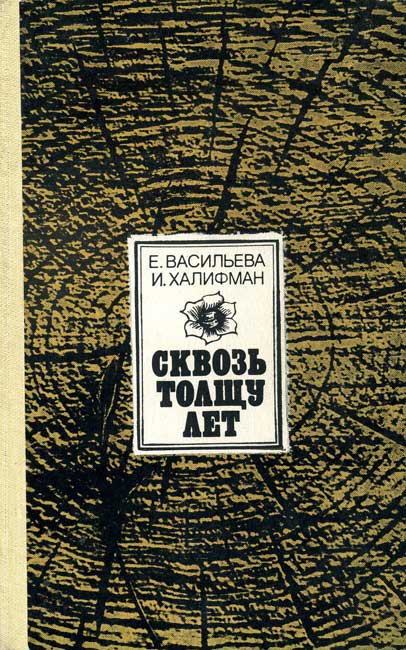Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Анна Вырубова (урожденная Танеева, 1884—1964) – дочь главноуправляющего Собственной Его Императорского Величества канцелярией А.С.Танеева, фрейлина и ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны.В сборник вошли воспоминания Вырубовой «Страницы моей жизни», письма к ней членов царской семьи, а также отрывки из так называемого «Дневника Вырубовой» – литературной фальшивки, наиболее вероятными авторами которой считаются П.Е.Щеголев и А.Н.Толстой.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анна Александровна Вырубова»: