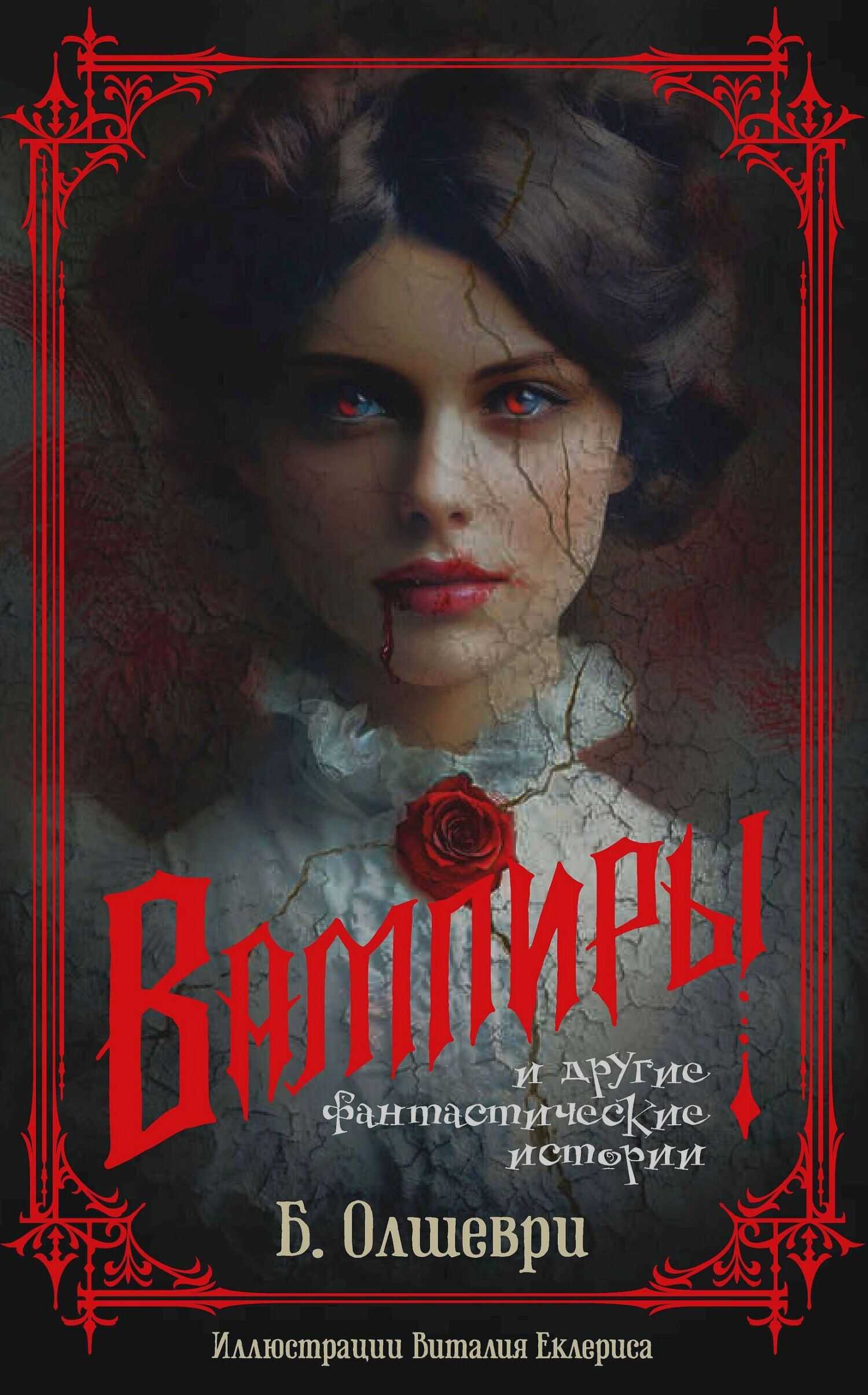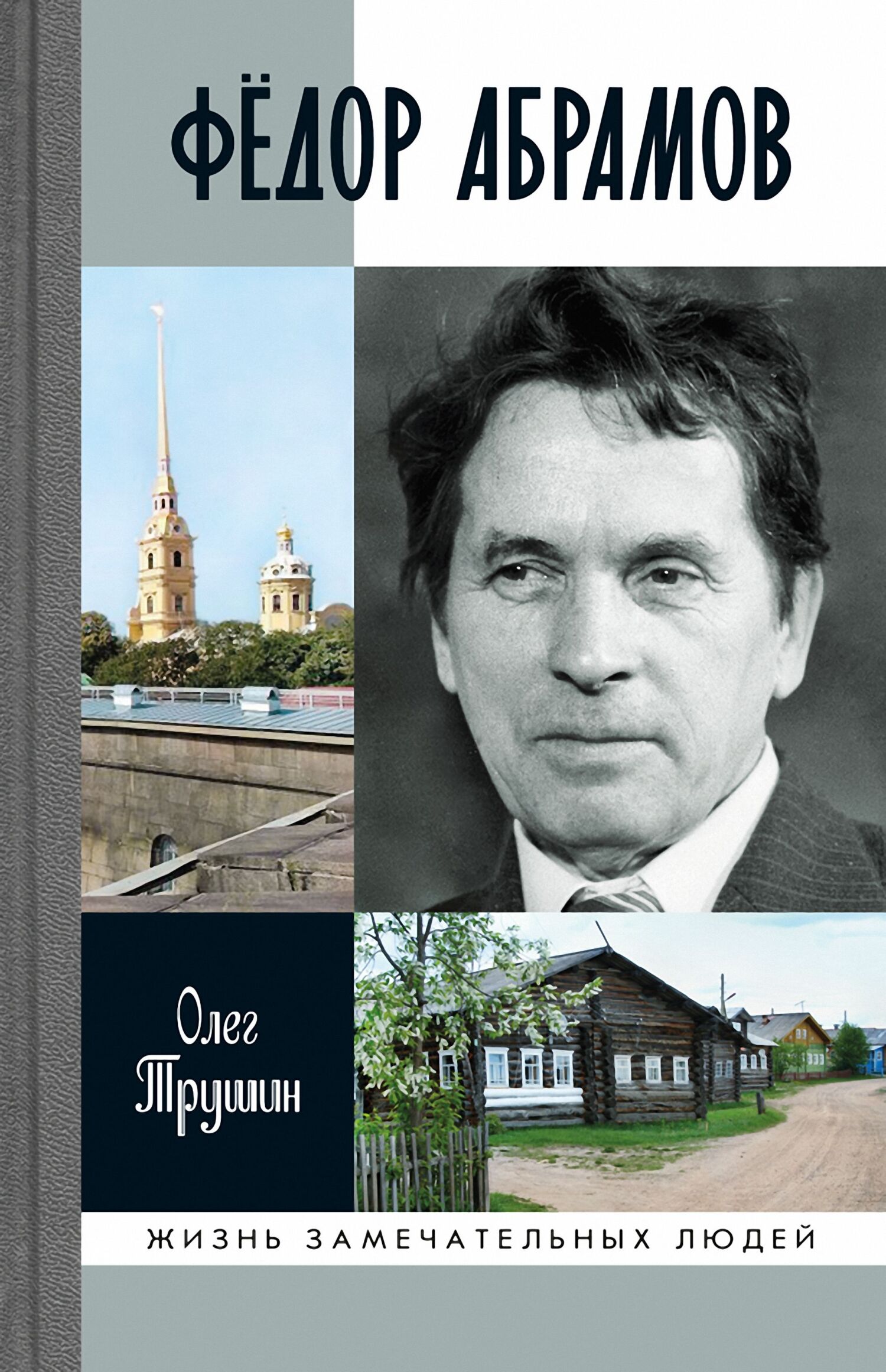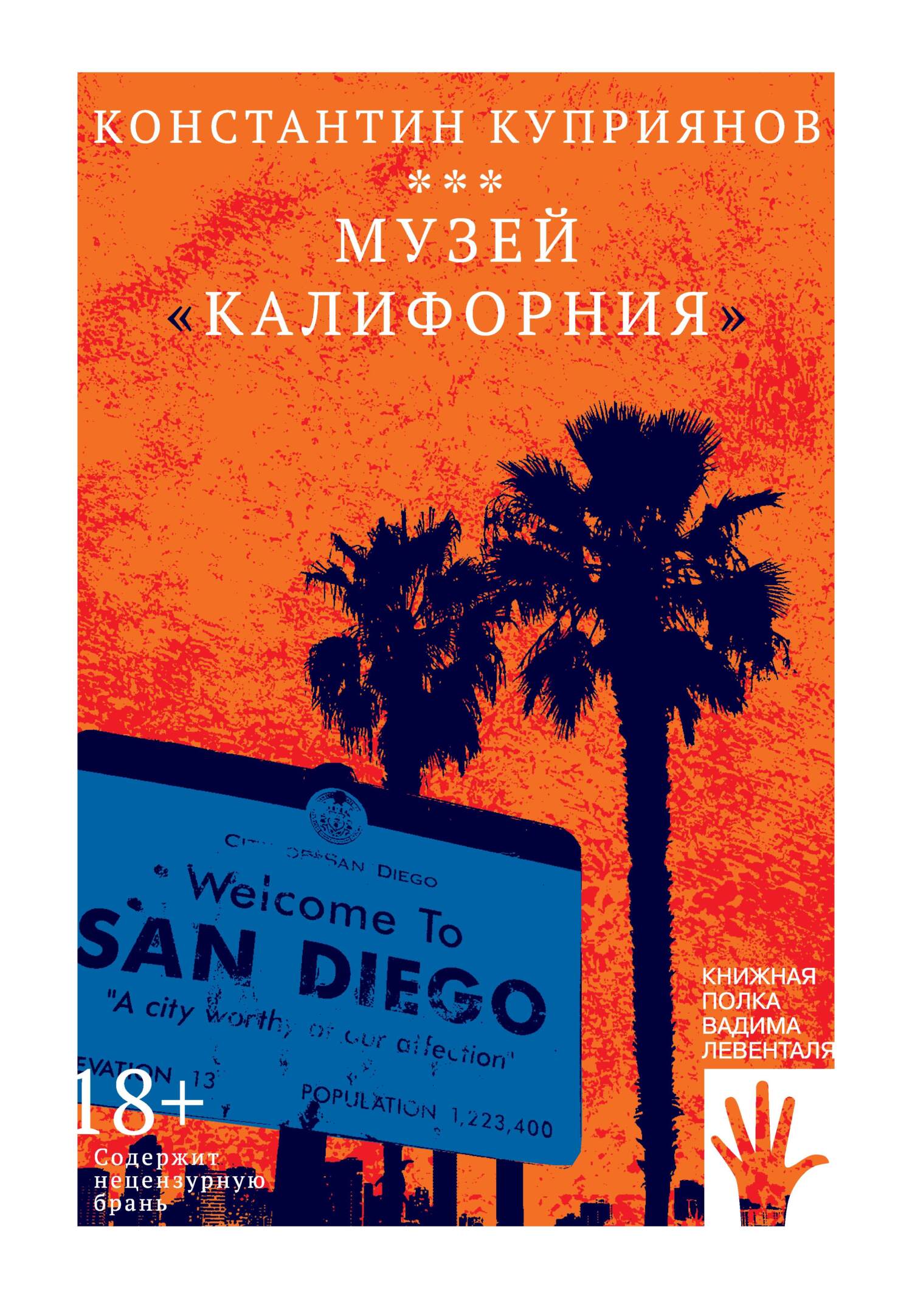Шрифт:
Закладка:
Больше сотни лет пытливые умы поклонников «литературы ужасов» занимал вопрос: кто же такой загадочный «барон Олшеври» (Б. Олшеври), за авторством которого в 1912 году увидел свет захватывающий фантастический роман «Вампиры. Из семейной хроники графов Дракула-Карди» – альтернативная история похождений самого известного вампира и обращенных им жертв?..Наконец тайна этой литературной мистификации раскрыта! Во вступительной статье, предваряющей настоящий сборник, его составитель и текстолог литературовед Дмитрий Кобозев впервые сбрасывает флер таинственности с личности «барона» и освещает этапы жизненного пути и литературное творчество скрывавшейся под звучным псевдонимом жены купца-чаеторговца Екатерины Николаевны Хомзе (1861-1916).Под обложкой этой книги притаились и другие сюрпризы. Для настоящей публикации текст главного опуса «барона», романа «Вампиры», очищен от типографских неточностей и украшен иллюстрациями Виталия Еклсриса. А также в сборнике читателя ожидает знакомство с пятью фантастическими рассказами «барона»: до наших дней они скрывались в рукописях и были совершенно неизвестны публике; в этих изящных творениях литературы Серебряного века вполне узнаваемы черты авторского стиля: поэтичность повествования, захватывающий, динамичный сюжет, мистический и романтический одновременно.