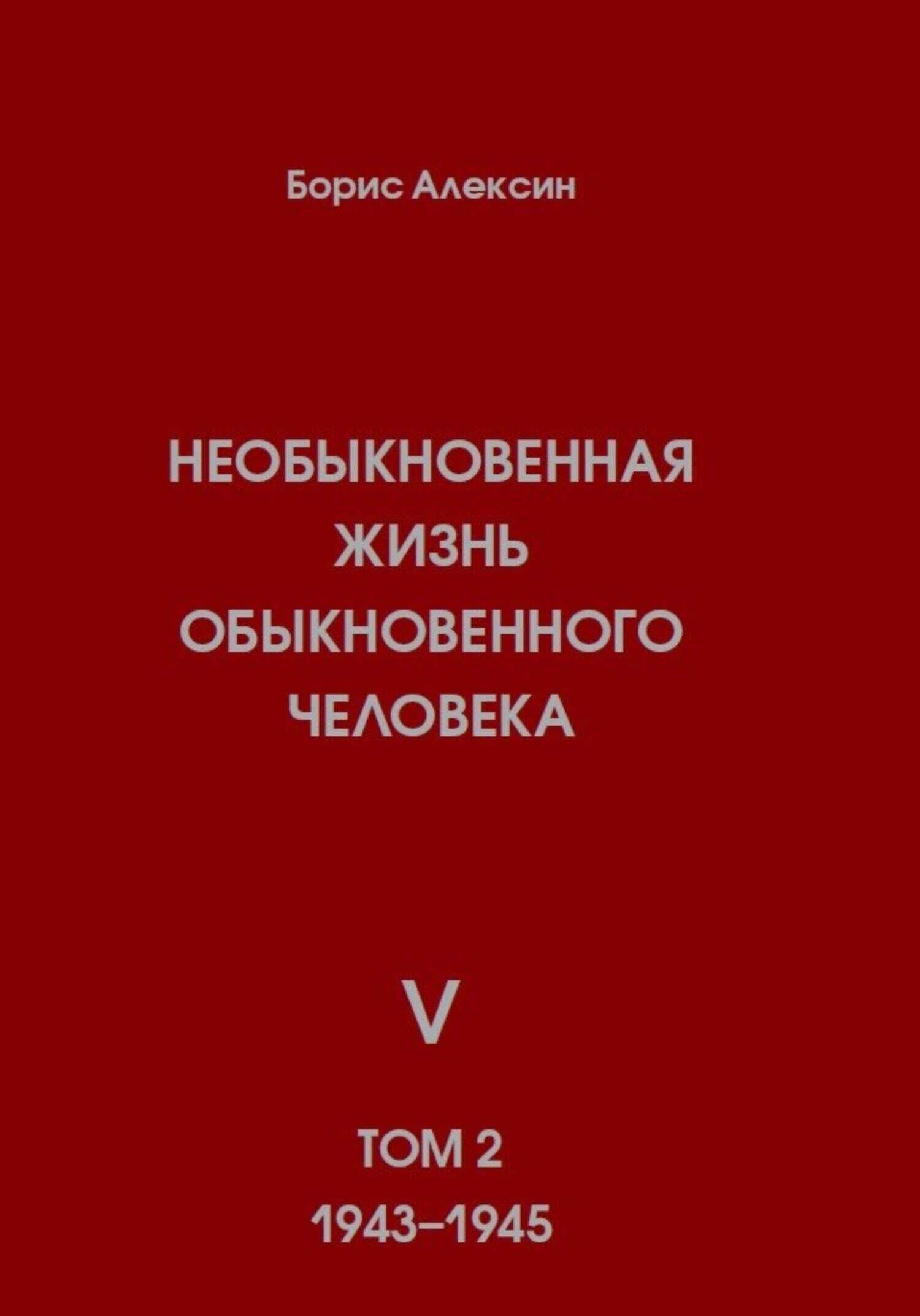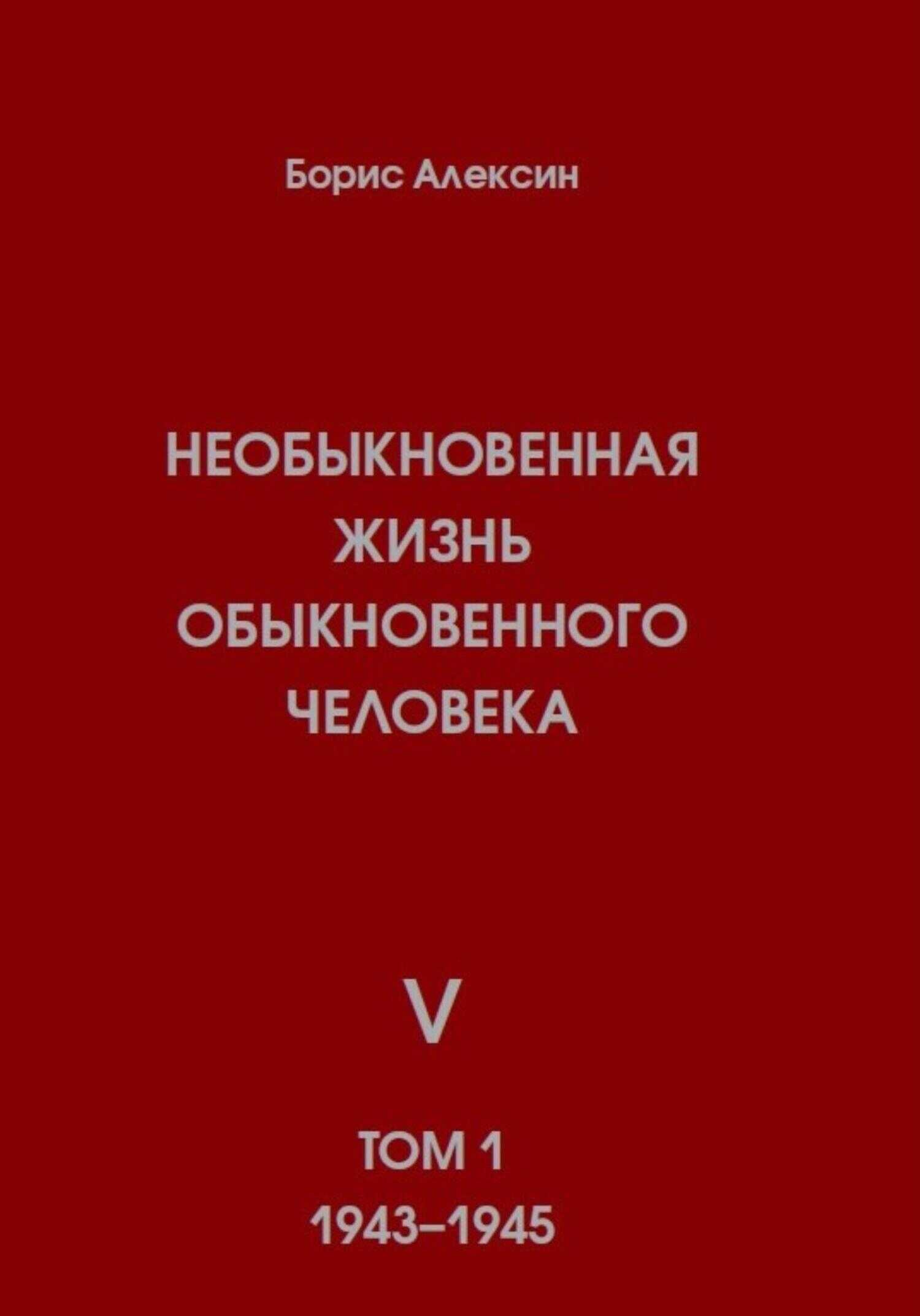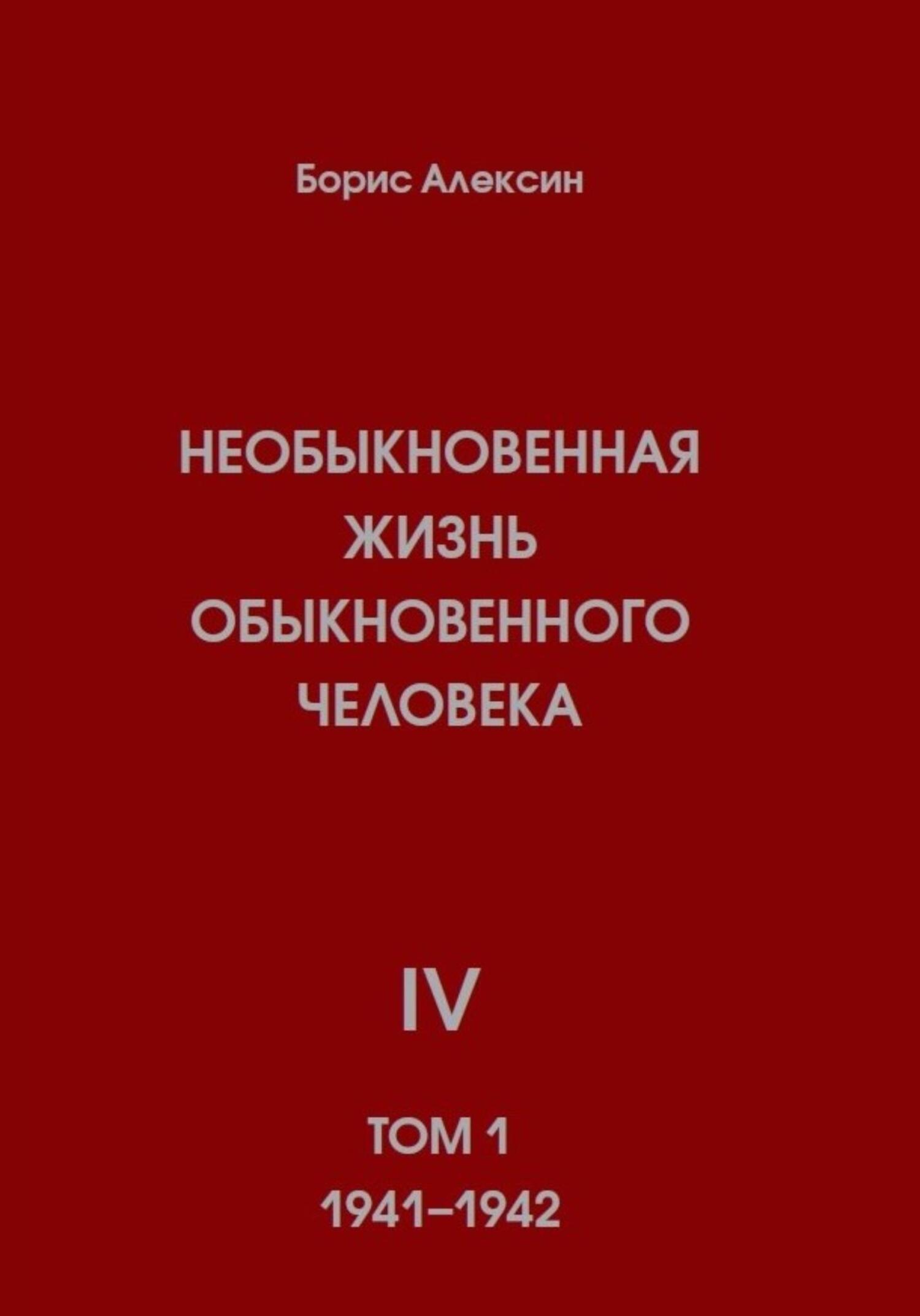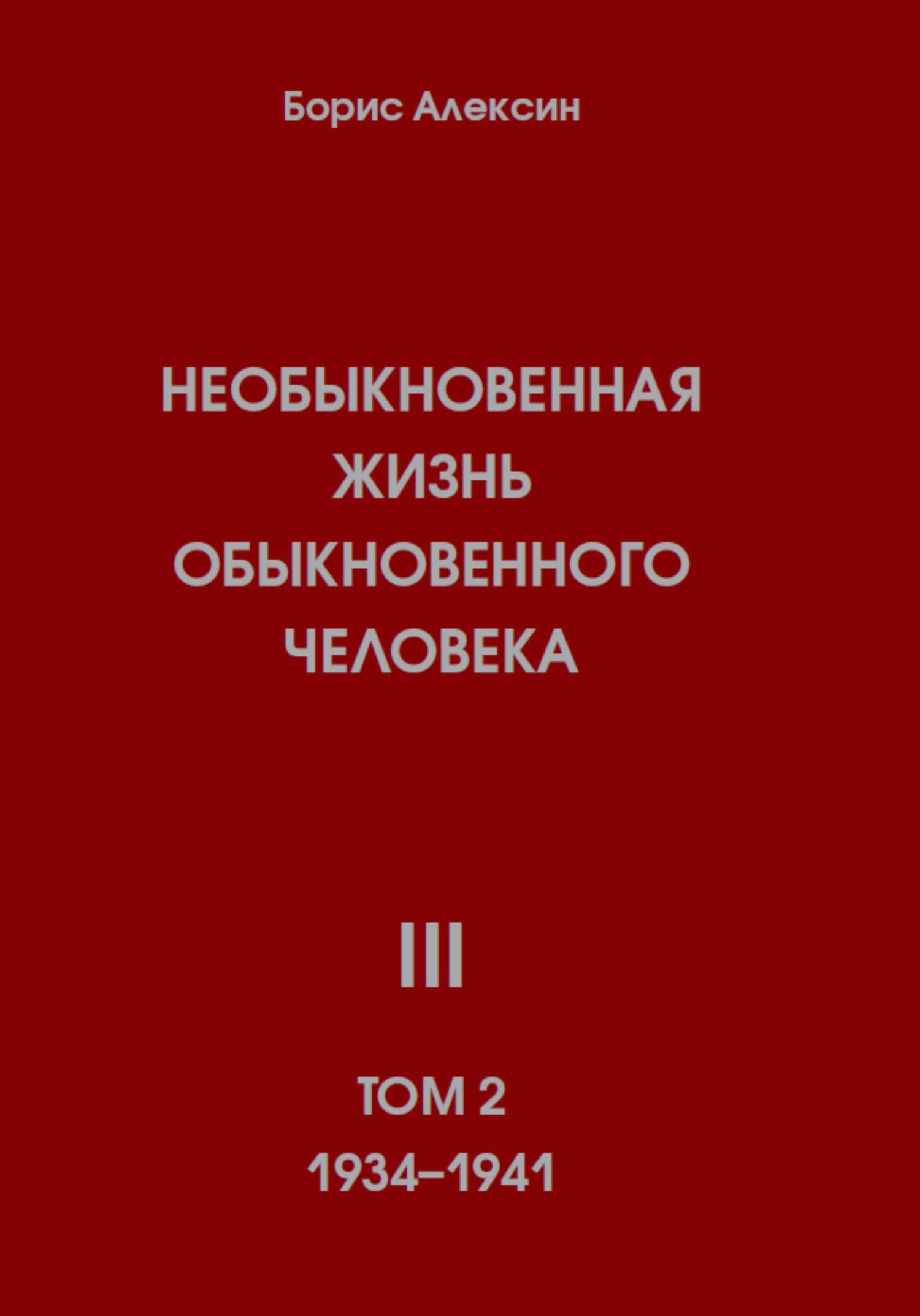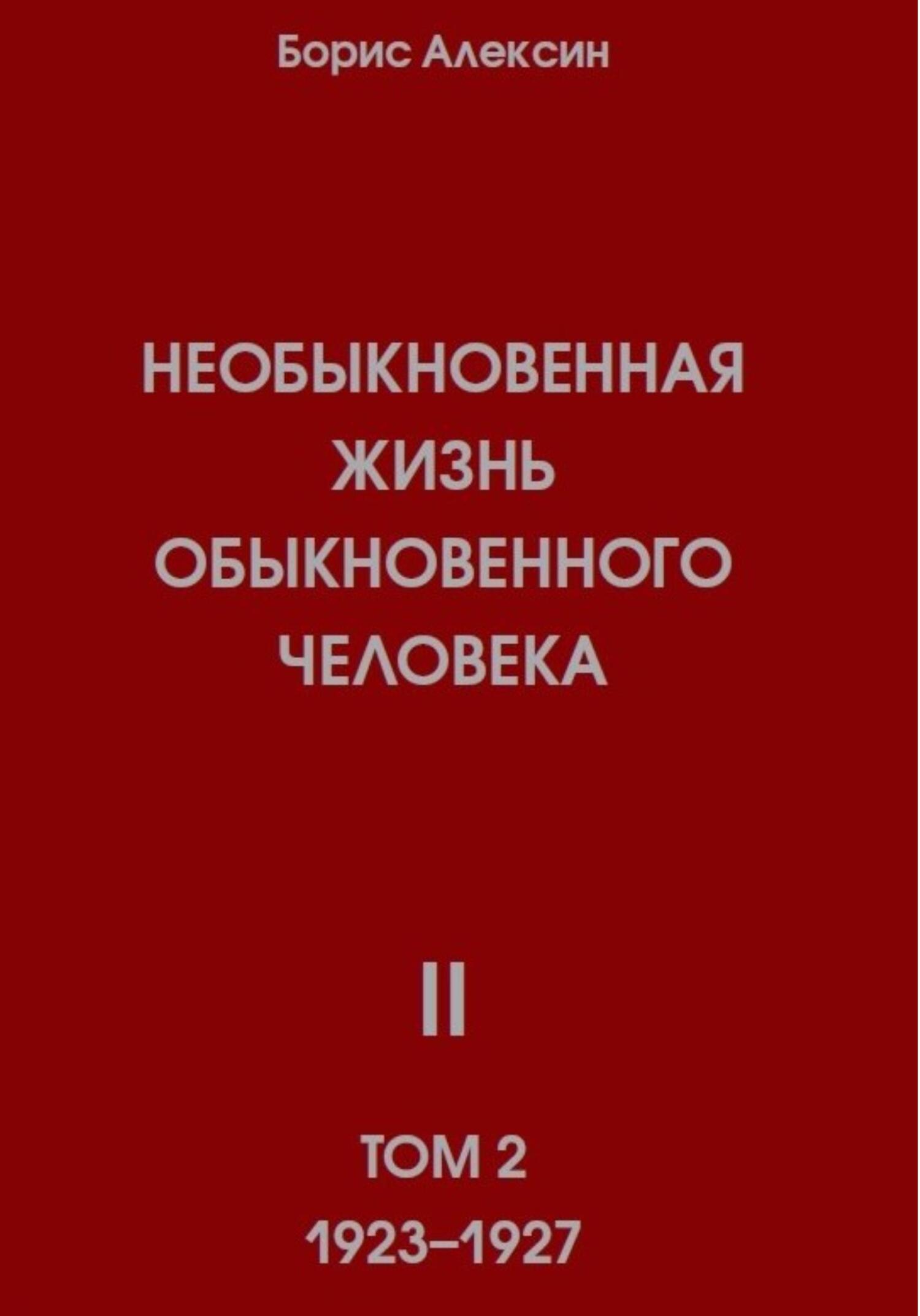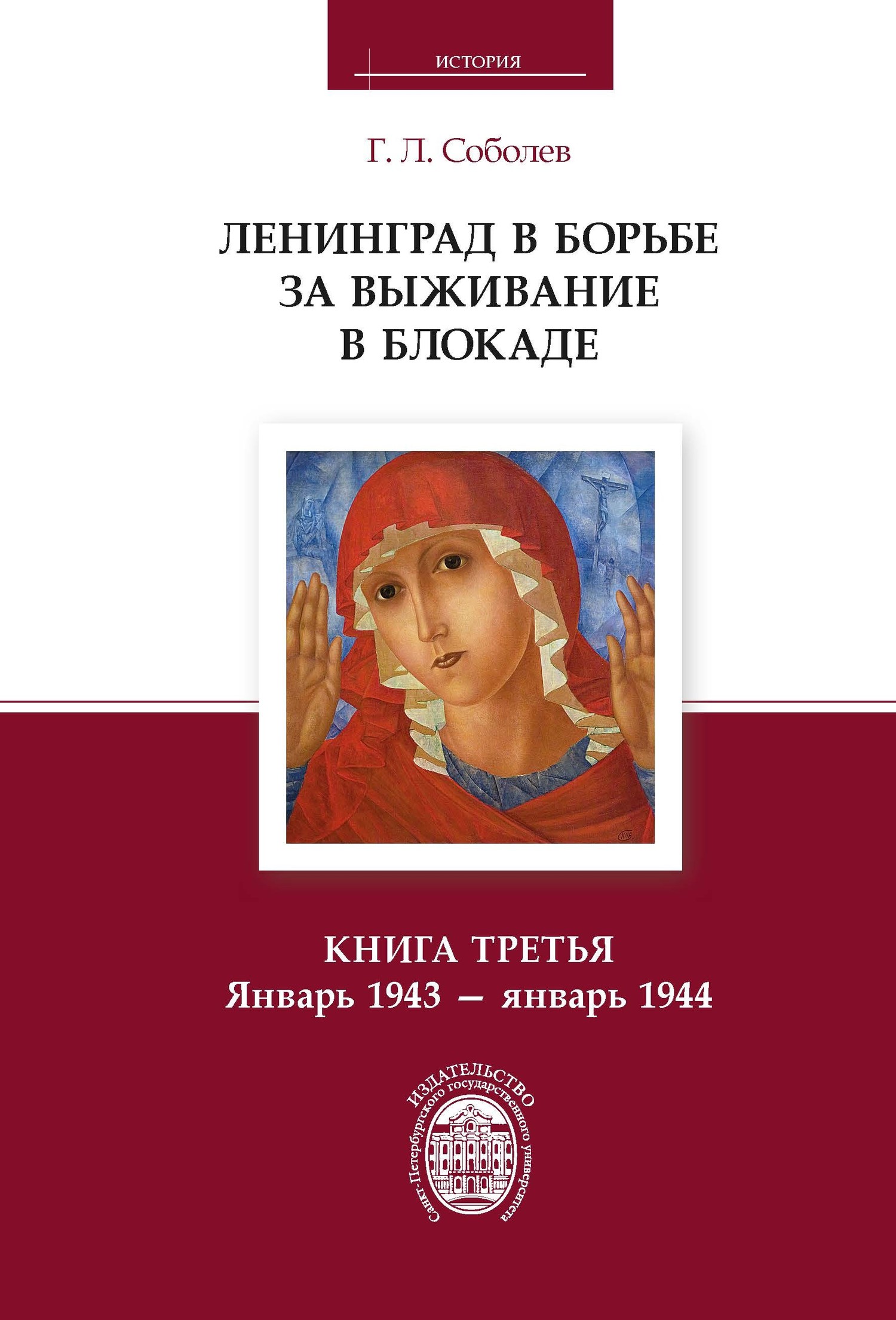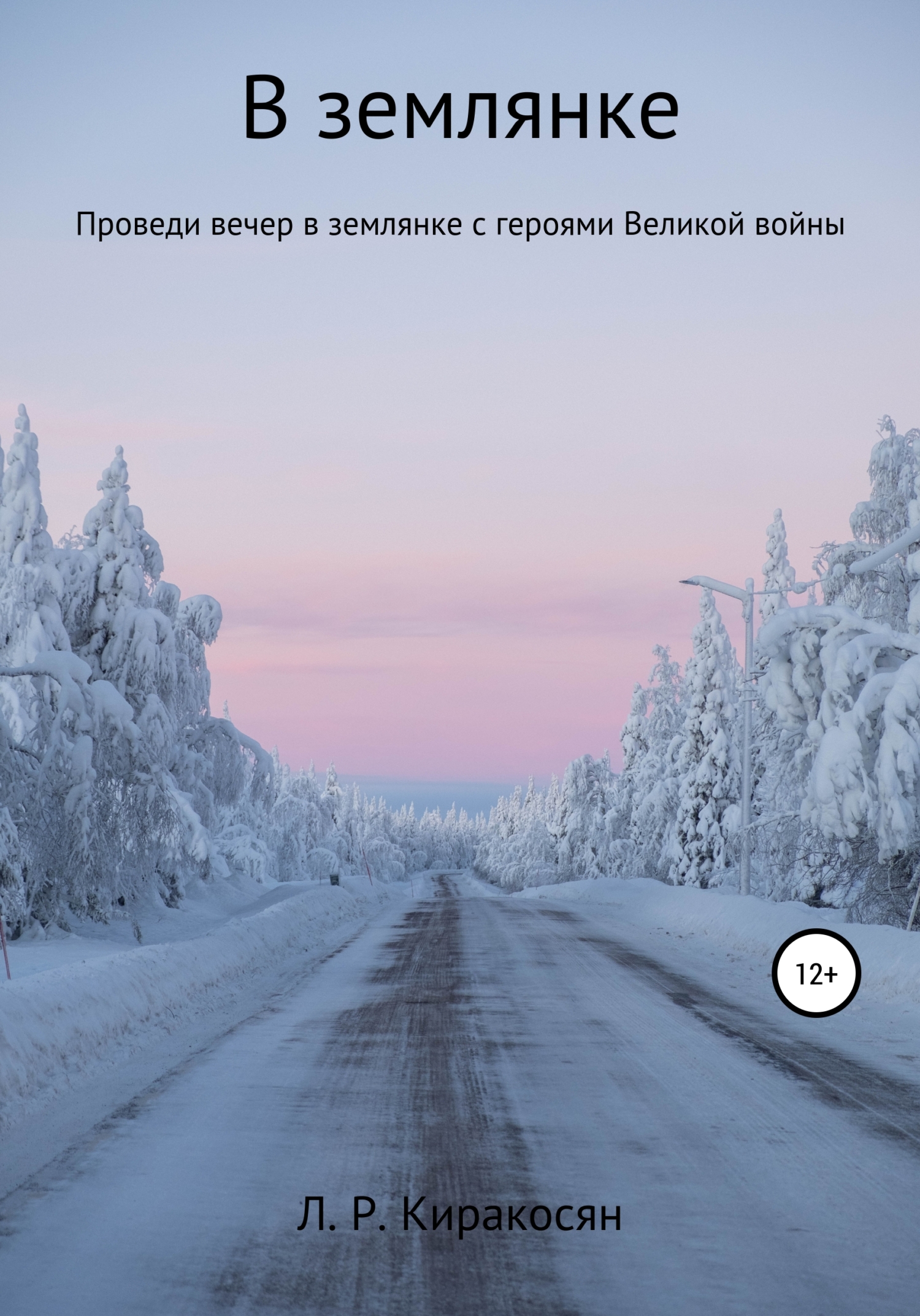Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение романа. Главному герою предстоит возглавить полевой госпиталь. Нелегко управлять большим медицинским учреждением, которому неоднократно приходится передислоцироваться. Госпиталь движется вслед за наступающими частями Красной армии по Ленинградской, Новгородской, Псковской областям и территории Эстонии. Находчивость, умение управлять людьми, большая трудоспособность и медицинский опыт помогут начальнику госпиталя выполнить поставленные командованием задачи. Семья главного героя, находясь в это время в тылу, испытает все тяготы оккупации, голод и бомбёжку.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Яковлевич Алексин»: