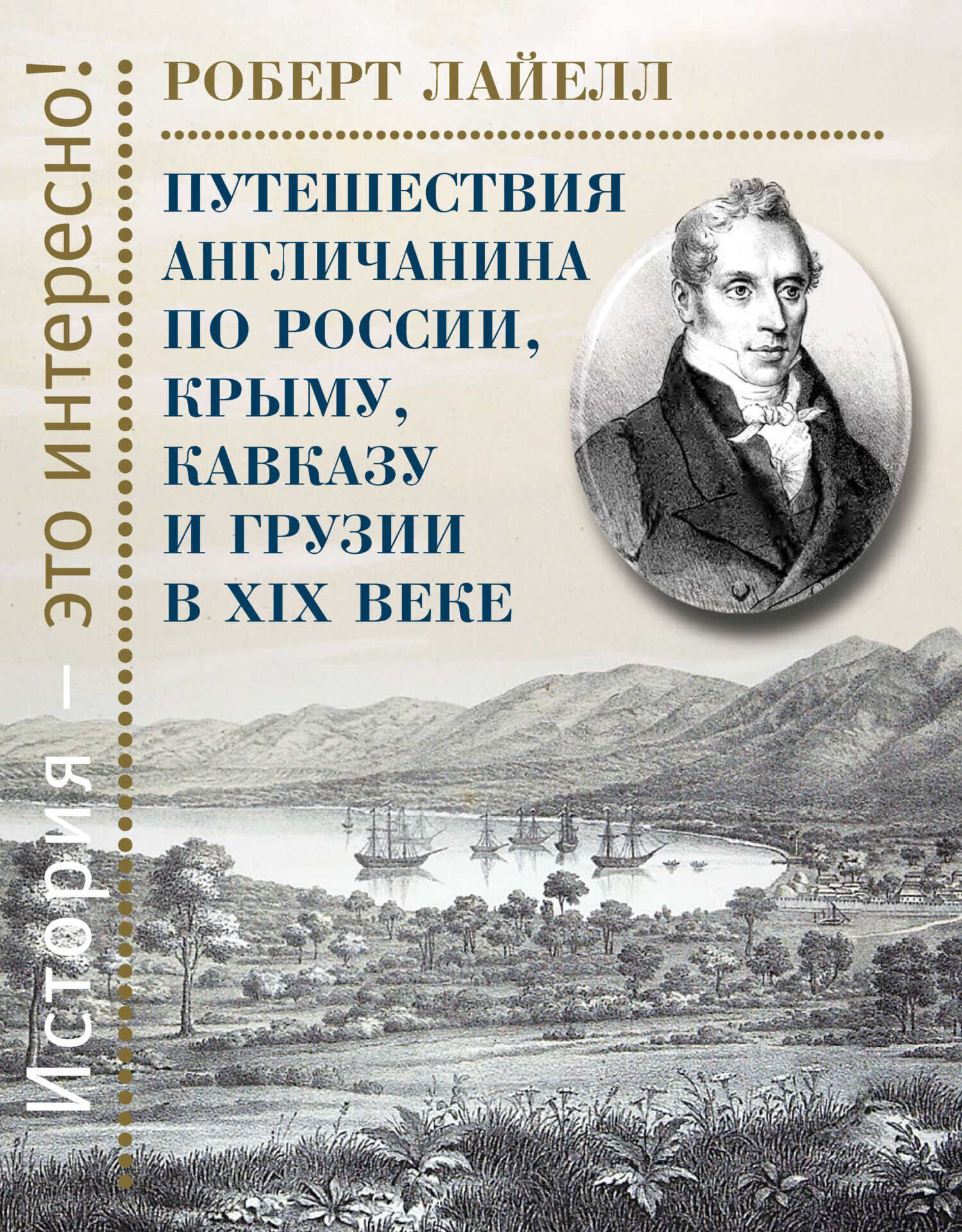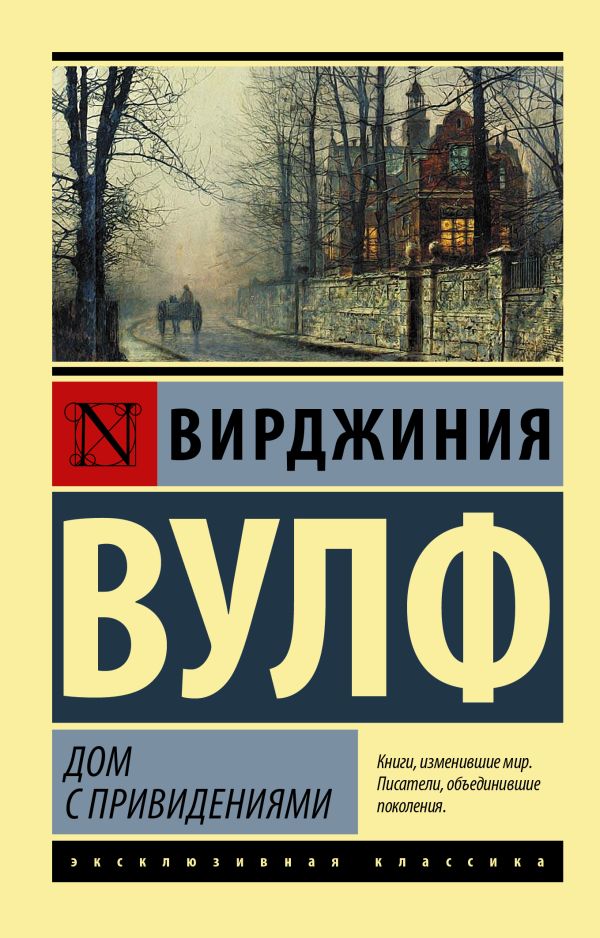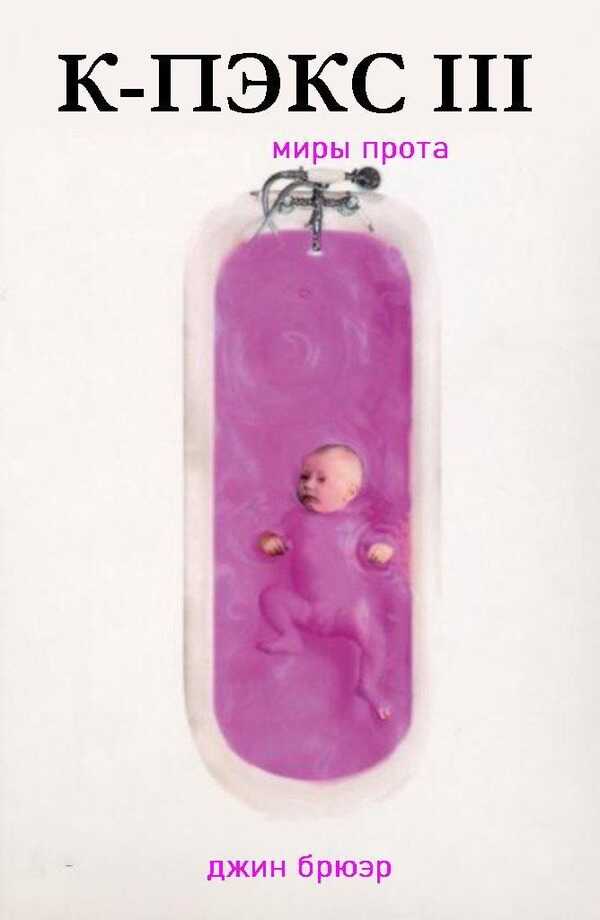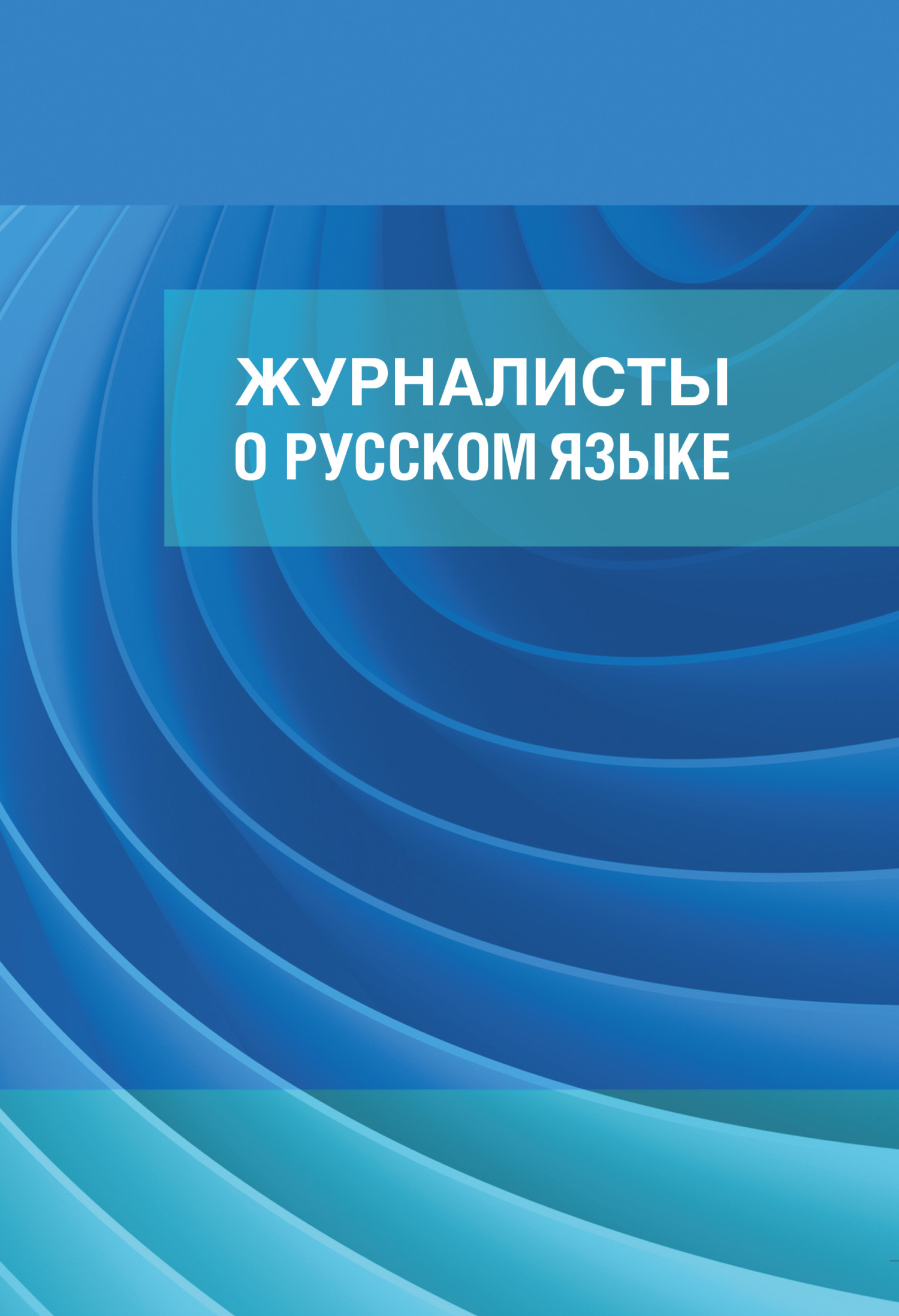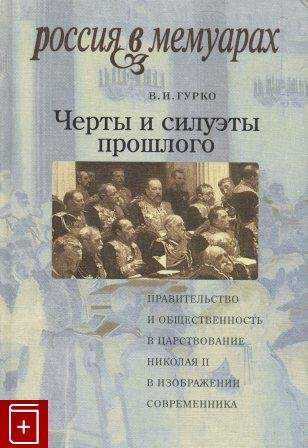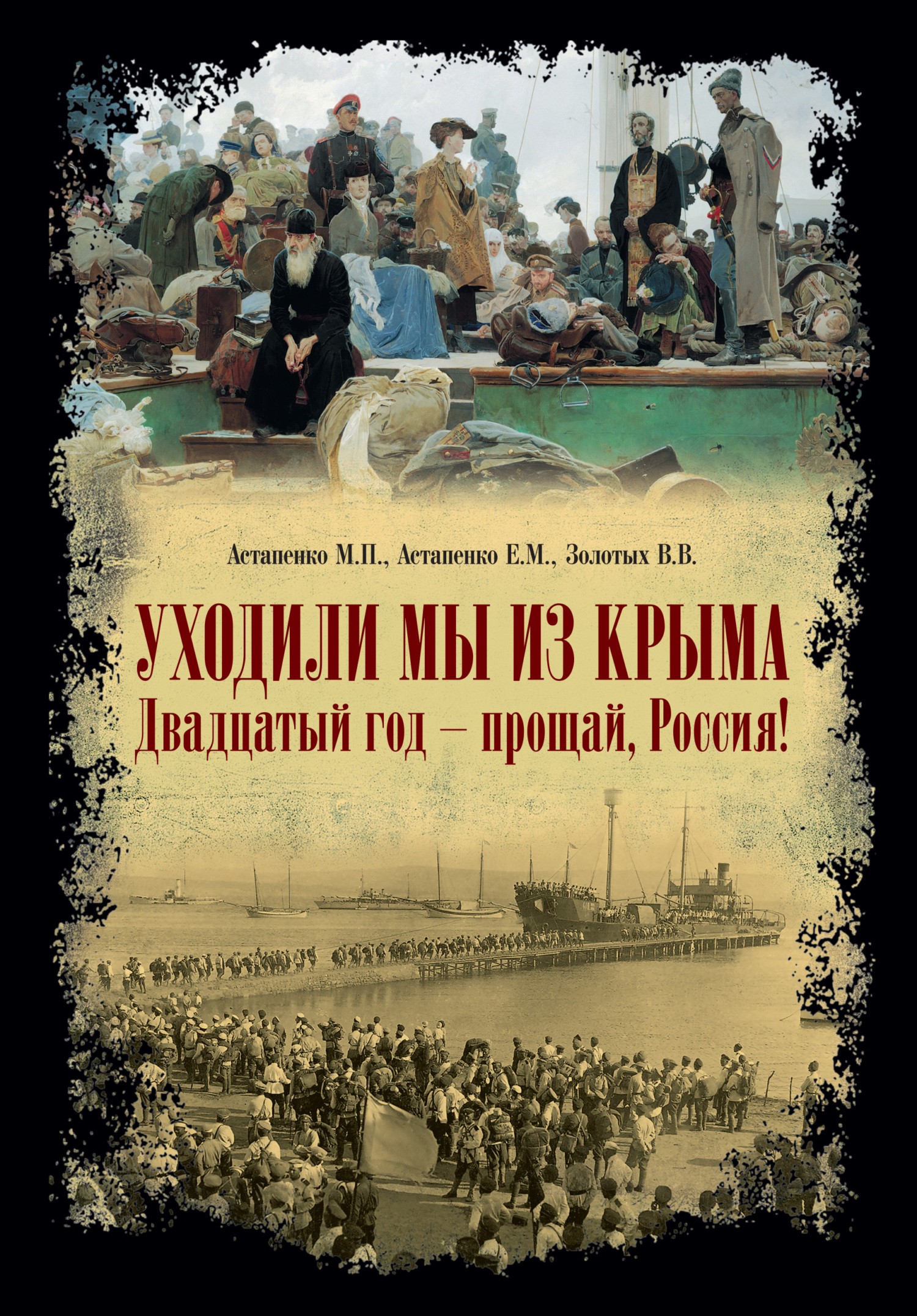Шрифт:
Закладка:
Роберт Лайелл (1790-1831) – шотландский хирург, доктор медицины, естествоиспытатель, ботаник и путешественник. С апреля по август 1822 года он путешествовал по Крыму, Грузии и южным провинциям России, а позже в Англии опубликовал две книги: «Характер русских и подробная история Москвы» (1823) и «Путешествия по России, Крыму, Кавказу и Грузии» в двух томах (1825). В них нашли отражение его жизненный опыт в России и знание языка, нравов и обычаев народов.Роберта Лайелла в путешествии интересовало всё: экономическое положение, климатические условия, торговля, искусство, быт, обряды, традиции народов. Он восхищался еще недостроенным кафедральным собором в Симферополе, посещал татарские кофейные дома и бани, большое внимание уделял красотам природы и устроению садов. В пути он вел записи, где подробно описывал города и села, нравы и обычаи местных жителей. Не удержался автор и от критики административных порядков в России, засилья чиновников и повсеместной коррупции.На примере дневниковых записей Роберта Лайелла читатель сможет понять, какими видели Россию, Крым и Грузию иностранцы почти 200 лет назад, что поражало их воображение, чем они восхищались.Книга снабжена редкими гравюрами и рисунками начала XIX века.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.