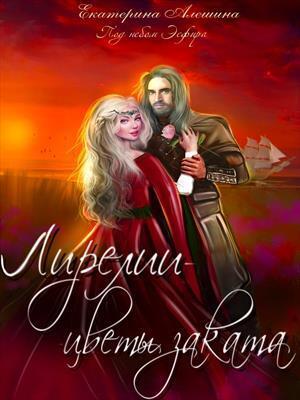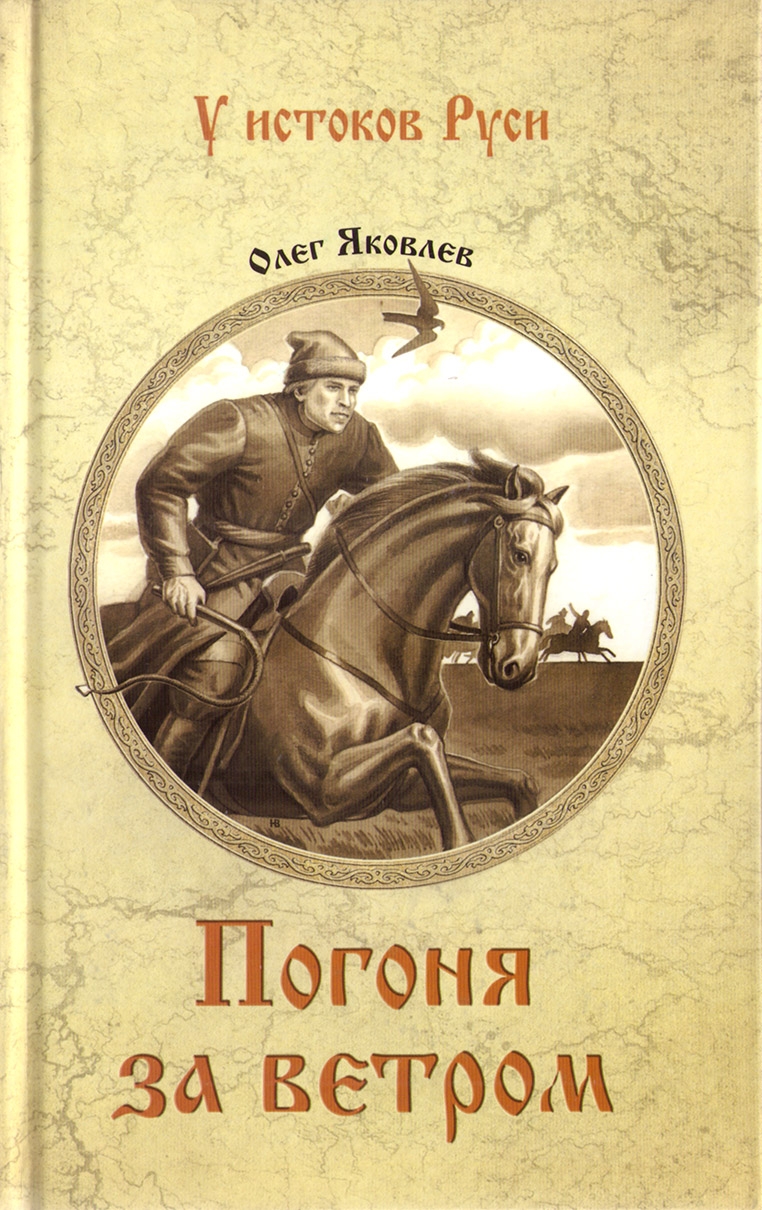Шрифт:
Закладка:
Для поклонников Скарлетт Сент-Клэр, Трейси Вульф, Дженнифер Арментроут, Рене Ахдие.Вторая часть в трилогии!Екатерина Алешина пишет романтическое фэнтези, выводя этот жанр на совершенно другой качественный уровень. Ее внимание к деталям мироустройства, описание здоровых отношений и создание пленительной атмосферы поражает воображение любого читателя.С детства Герда видит один и тот же сон: северное море, фьорды и причал, где ее ждет незнакомец. Она не может разглядеть его лица, но таинственный голос из тумана обещает: «Он найдет тебя сам».С каждым днем сны Герды становятся все более зловещими, а по всему Эсфиру бесследно исчезают самые сильные бессмертные. Всюду властвует страх.Из далекого Петербурга в столицу Южной империи прибывает загадочный лорд Нордвинд, чье сердце сотни лет хранит одну горькую тайну. Он пойдет на все, чтобы вернуть себе то, что когда-то у него жестоко отобрали.Герда начинает понимать, что ее жуткие видения и прошлое Эрика Нордвинда связаны. Чтобы узнать правду и спасти своих близких, ей придется принять жестокий выбор: рискнуть жизнью ради света или наблюдать, как ее мир тонет во тьме.