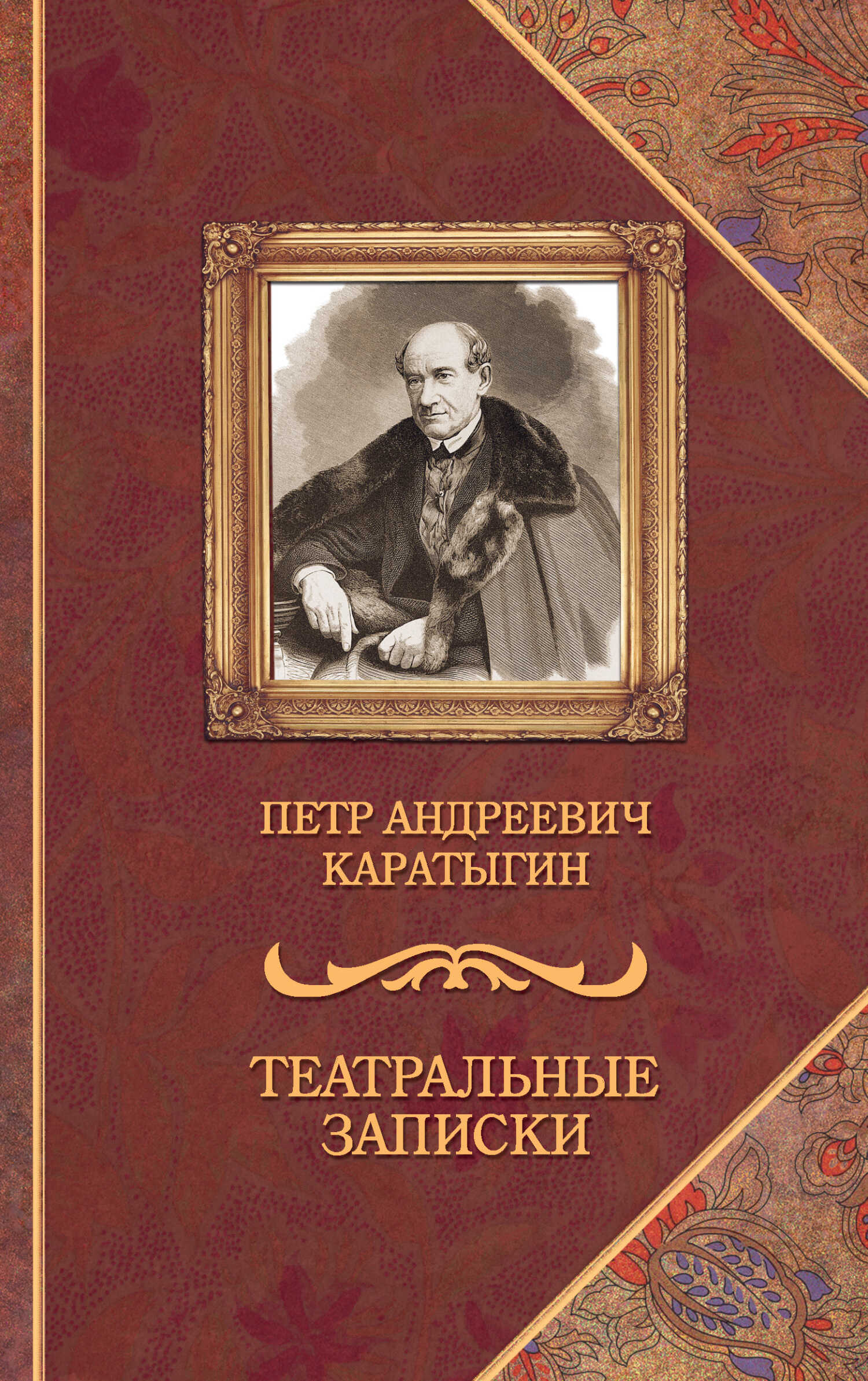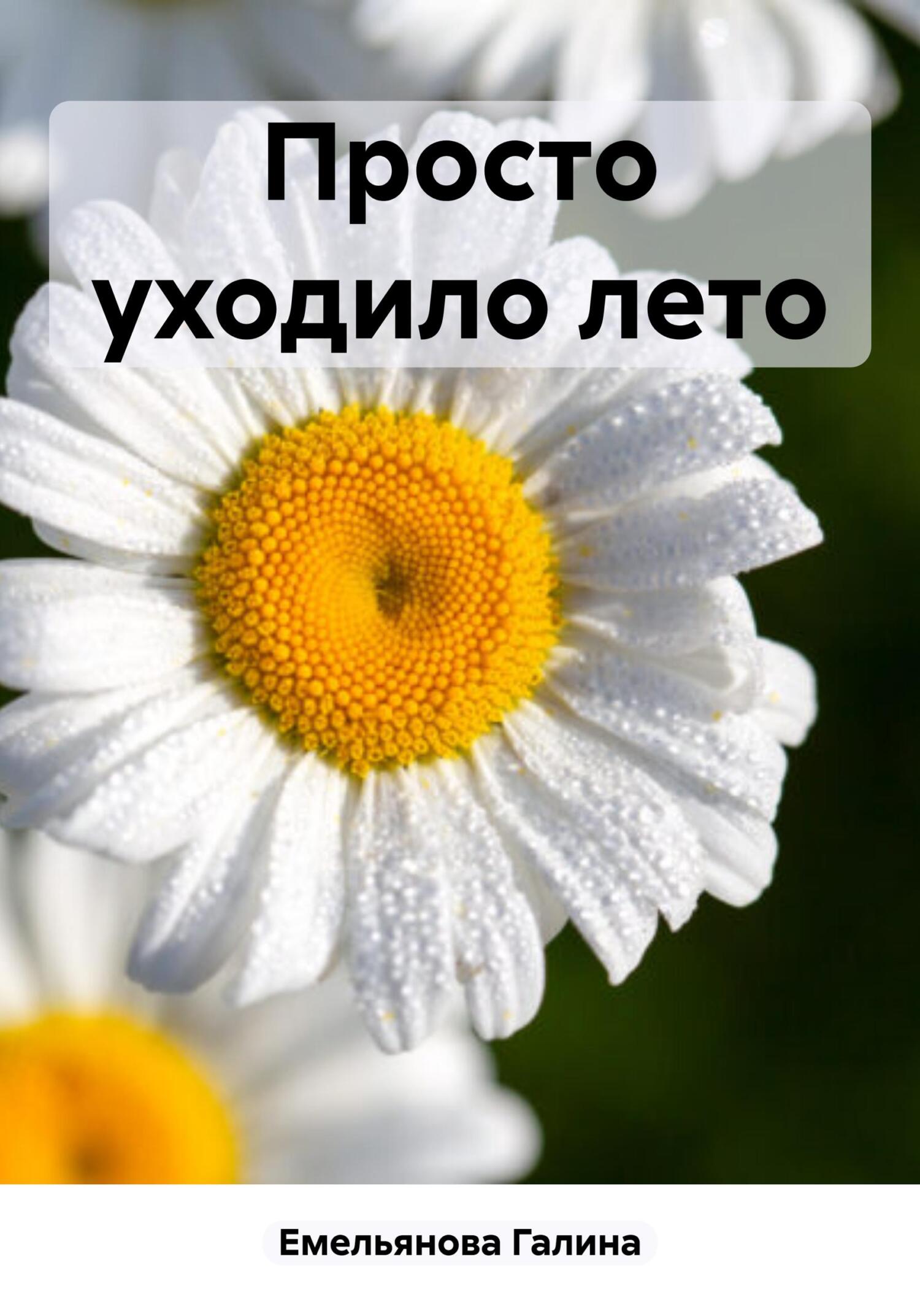Шрифт:
Закладка:
Петр Андреевич Каратыгин (1805–1879) – потомственный актер, драматург, педагог, мемуарист – вспоминает молодость – свою и русского театра.В начале XIX века меняется вся картина театральной жизни в России: увеличивается количество театральных трупп, расширяется состав актеров. Специально для сцены знаменитые авторы пишут, переводят и адаптируют произведения самых разных жанров. Сцена начинает остро нуждаться в профессионалах, и их воспитывают в Петербургском театральном училище. В Москве и Петербурге открываются Императорские театры, в труппы которых приглашают наиболее способных и талантливых выпускников училища.Императорские театры, несмотря на свое пышное название, мало отличались от нынешних театров в плане взаимоотношений актеров между собой: кипели те же страсти, устраивались розыгрыши, плелись интриги.Перед вами своего рода энциклопедия целой театральной эпохи. Как Крылов воспринимал «экранизации» своих басен? Откуда взялось выражение «игра не стоит свеч»? Любили ли Грибоедова его более популярные современники?.. Об этом и о многом другом рассказывает Петр Андреевич Каратыгин с присущими ему остроумием, иронией и наблюдательностью.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.