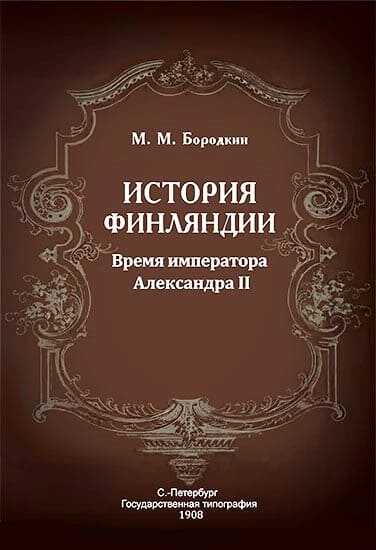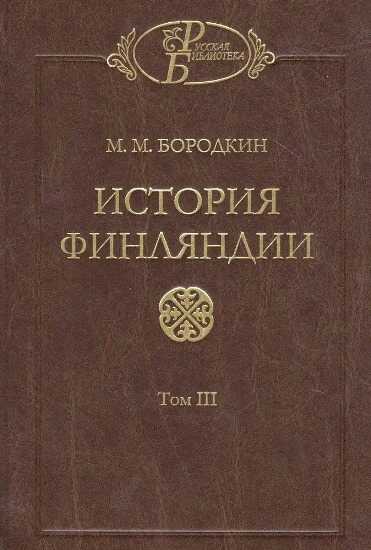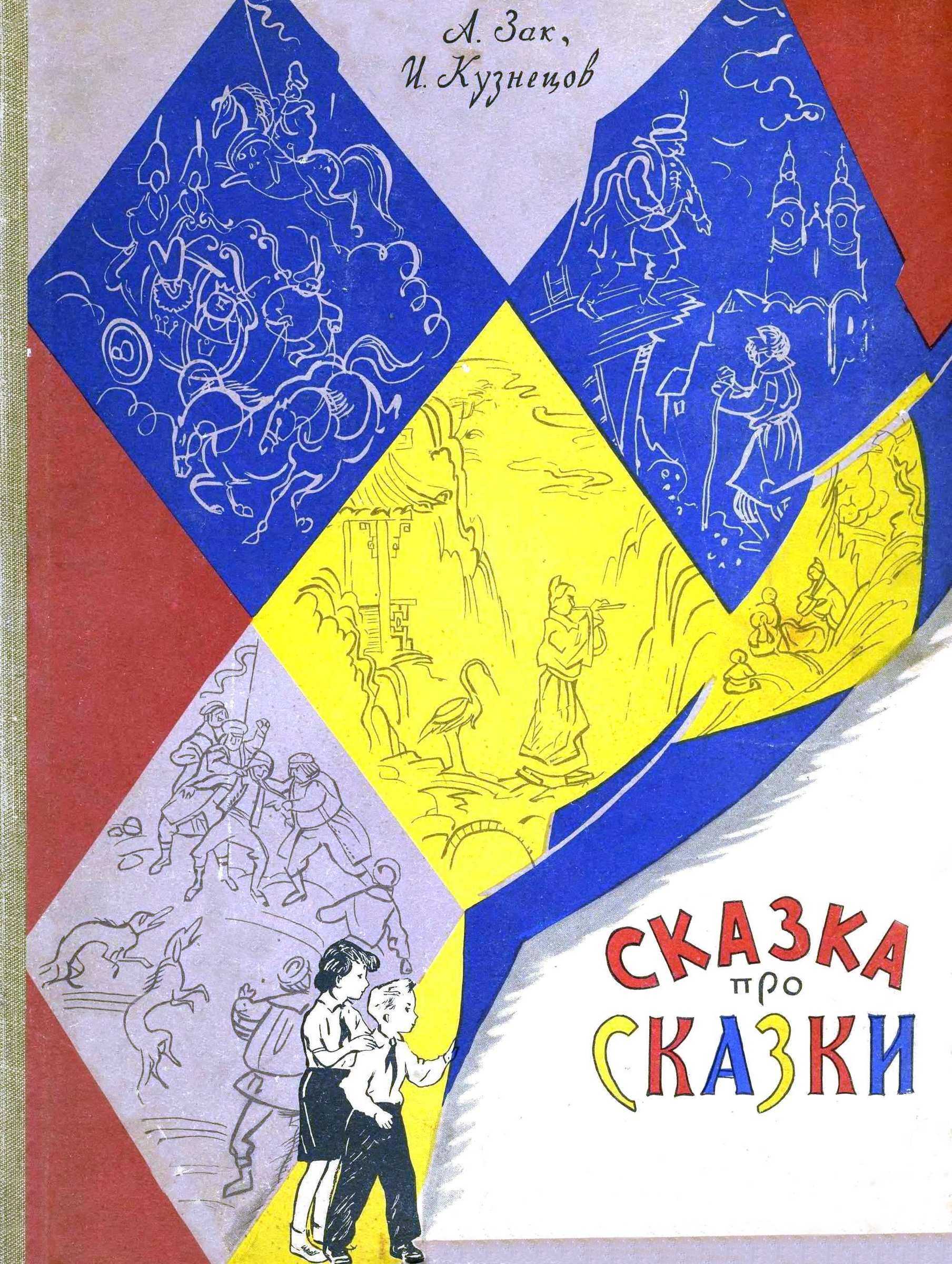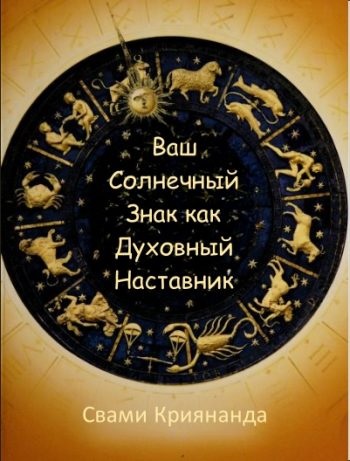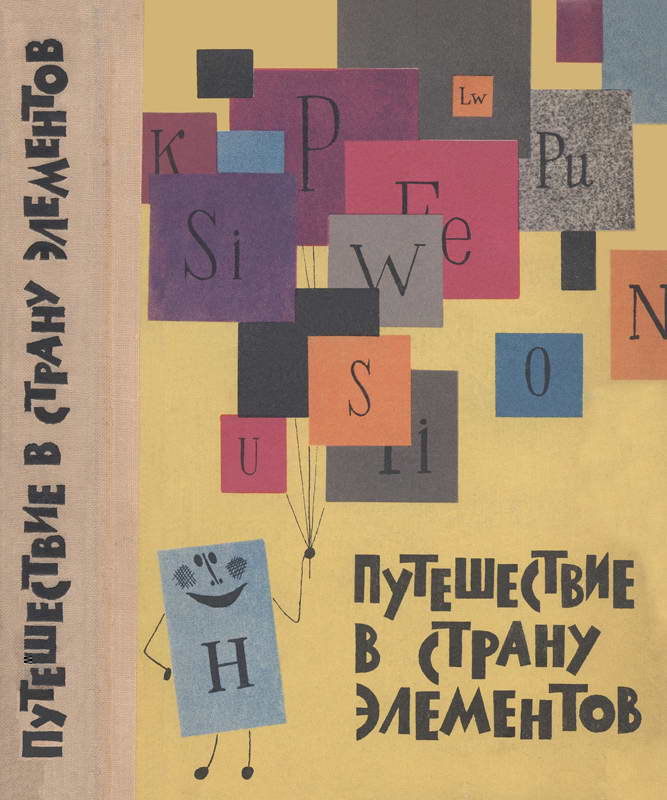Шрифт:
Закладка:
Уникальное исследование рассматривает историю Великого Княжества Финляндского не только с политической стороны, но и освещает развитие общественных движений и идей, формирование партий, отношение финнов к русским, положение русских учебных заведений и православия. Настоящее издание входило в серию книг, написанных М. М. Бородкиным, освещавших историю Финляндии на протяжении почти двухсот лет, с эпохи Петра Великого до окончания царствования Александра II. Автор подробно останавливается на деятельности Александра II в Финляндии, отдельно рассматривая досеймовый период: открытие Сайменского канала, первые посещения Финляндии в качестве императора, оппозиционное движение в Гельсингфорсе, отношение к освобождению крестьян. В результате реформ Александра II финский язык получил статус второго государственного в Финляндии и был введен в официальное делопроизводство, открыты национальные школы, значительно смягчились правила цензуры, финансовая реформа позволила освободить финскую марку от курса рубля, в 1869 г. был издан Сеймовый указ, фактически заменившей Финляндии конституцию. Большое внимание в книге уделено любопытным коллизиям становления национального самосознания финнов, нередко приобретавшим гротескные формы. М. Бородкин останавливается на каждом из значимых этапов развития Финляндии, подводя в конце итоги деятельности императора. В основе настоящей публикации оригинальное издание, выпущенное Государственной типографией 1908 году.