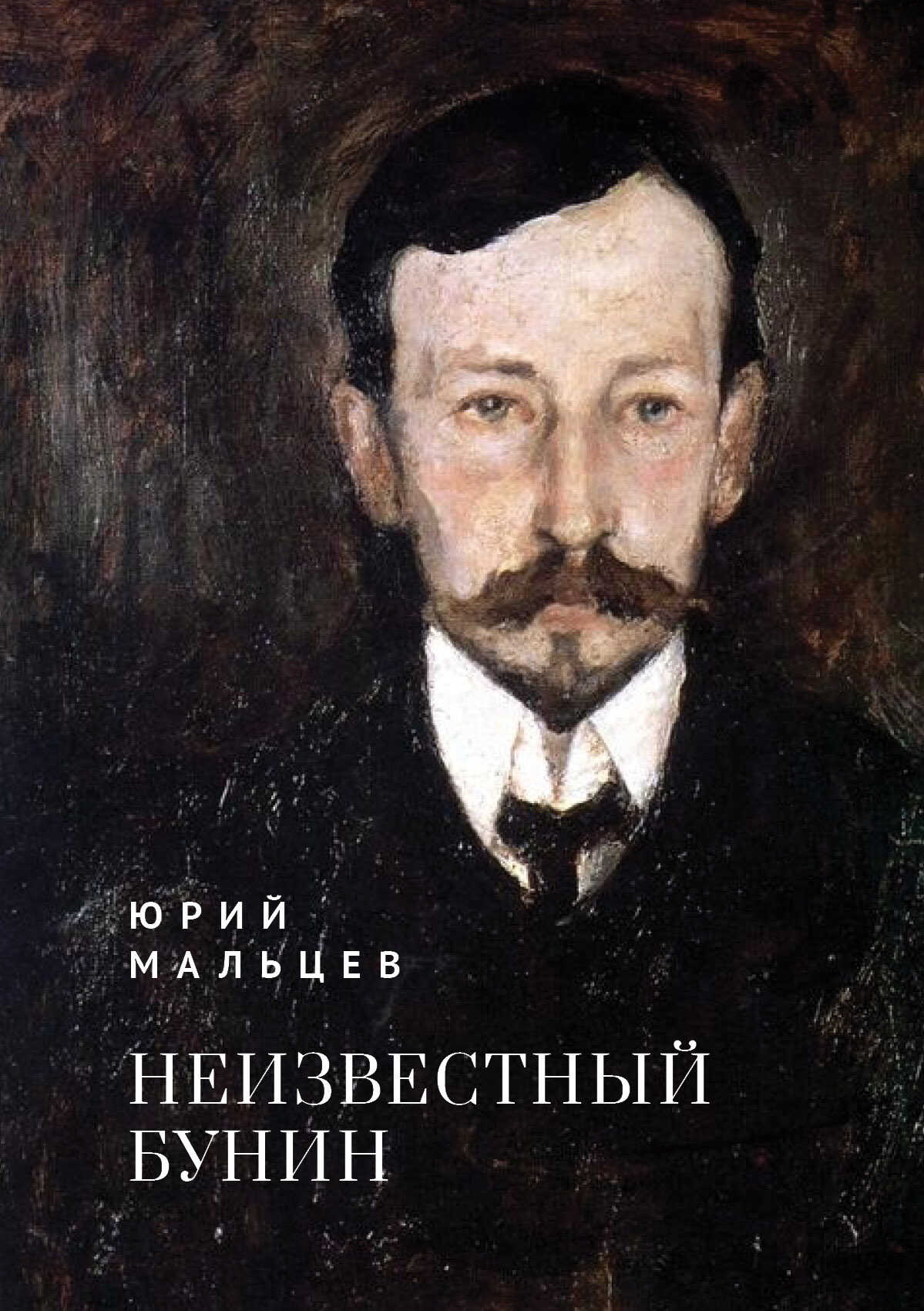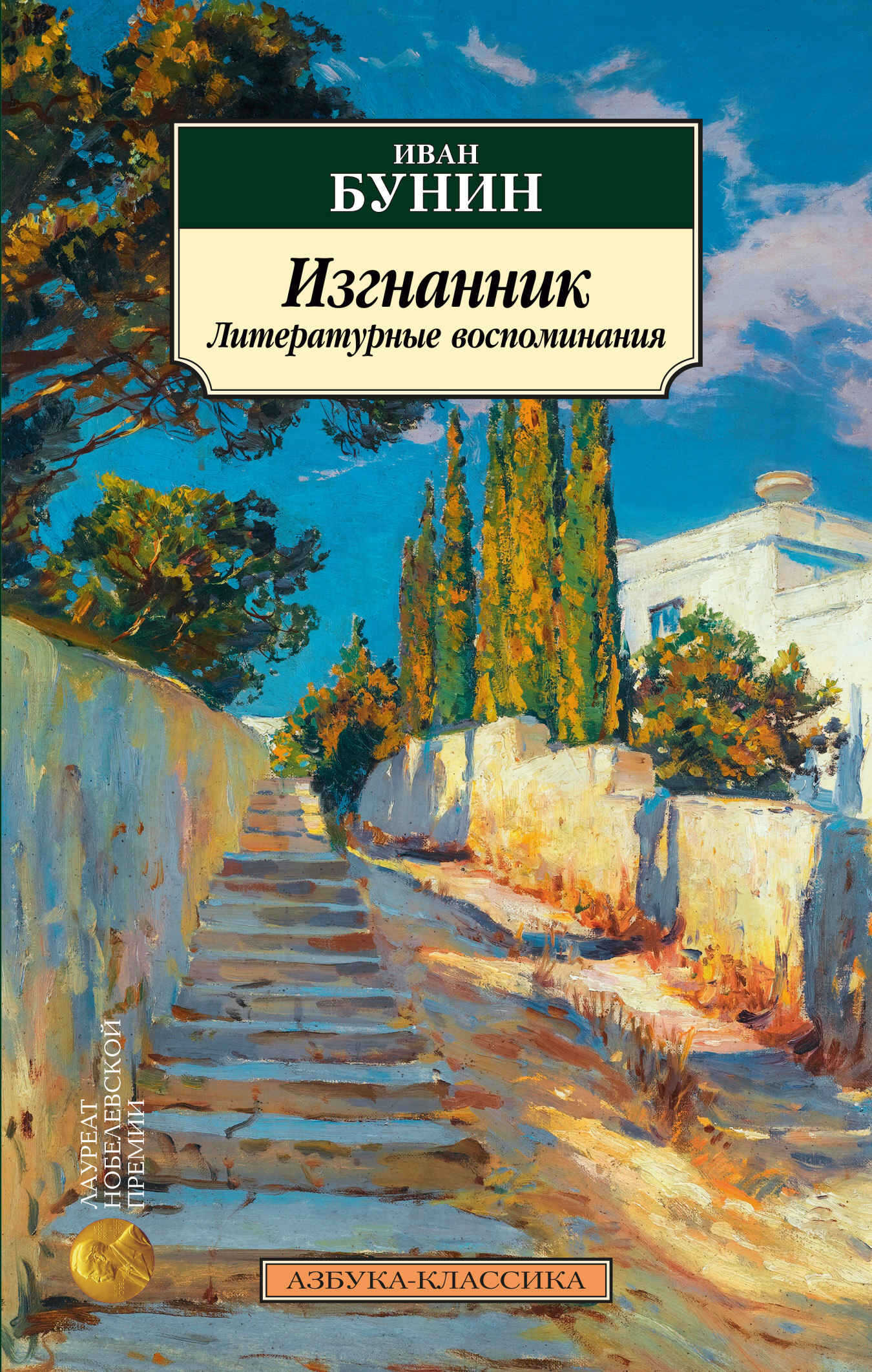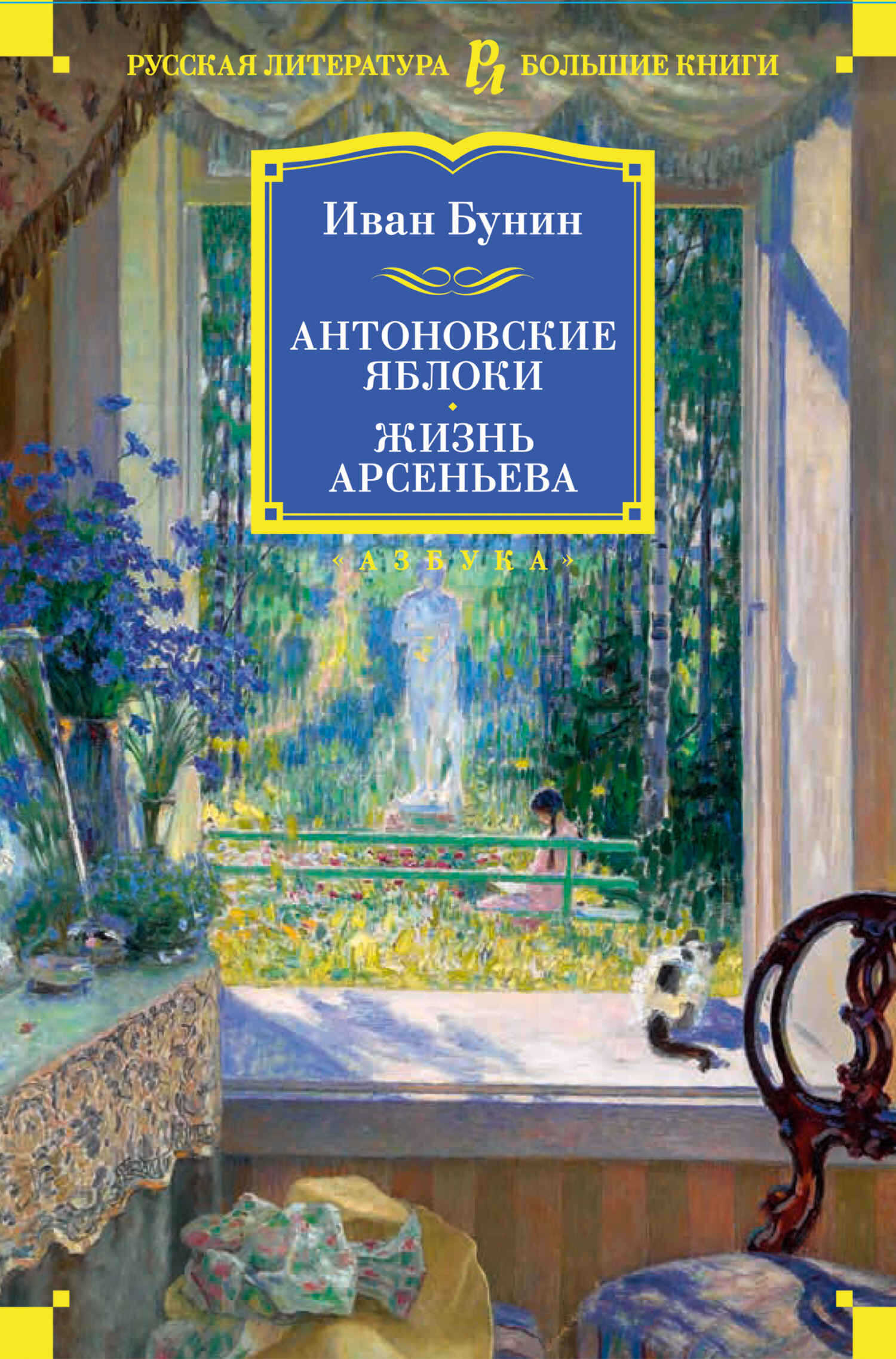Шрифт:
Закладка:
Живая жизнь обречена на смерть, но сама она этого не знает, или вернее знает, но не верит в это. Этот мотив неверия в смерть – один из постоянных у Бунина389. Живая жизнь и смерть несовместимы. Сознание смерти исключает живую жизнь. Это дальнейшее развитие того же юношеского мотива о запаздывании осознания жизни («пока живешь – не чувствуешь жизни»).
Переживание процесса жизни и осознание процесса жизни не могут проходить синхронно. Осознание жизни и смерти означает уже выход из райского состояния. Но жизнь без осознания не имеет цены, она – пуста, и это еще одно неразрешимое противоречие жизни и еще одна антиномия художественного мира Бунина.
Ошибаются те, кто пытается уместить Бунина в одно из двух определений: «пессимист» или «оптимист». Ричардс, чтобы избежать этой односторонности, назвал Бунина «оптимистическим фаталистом»390, то есть, по мнению Ричардса, несмотря на то, что Бунин ощущал бессилие человека перед гигантскими силами вселенной, он якобы был уверен в конечной осмысленности этих сил и, следовательно, в высшей ценности человеческого бытия. Но именно уверенности-то у Бунина никогда не было. Его внутренняя жизнь отмечена постоянным сомнением, вопрошанием, удивлением. Радостное ощущение счастья жизни постоянно сопровождается невозможностью принять смерть и осмыслить ее. Радость и ужас – его постоянные эмоции.
Бунин долго лелеял надежду (но уверенности у него не было и тогда) о возможности некой высшей мудрости, совмещающей в себе обе противоположности: безмятежную радость бытия и осознание смерти. Вот почему при писании своих крестьянских рассказов он так напряженно старался разгадать тайну спокойного безразличия мужиков к смерти. За этим безразличием ему мерещилась именно высшая мудрость и знание некой тайны – невольный отголосок народнического преклонения перед «мудростью народа» или скорее всё же перед мудростью предков, связь с которыми Бунин искал у крестьян[15].
Уже в рассказе «Беден бес», как мы видели, он в недоумении наблюдает за тем, как бродяга со спокойным безразличием идет ночью в метель на почти верную смерть, и с удивлением слушает рассуждения церковного сторожа о смерти: «Смерть-то? Чего ж ее бояться? Двум смертям не бывать, одной не миновать! – бойко ответил сторож» (Пг. IV. 98). Недоумение так ничем и не разрешается, рассказ кончается вопросом: «Дикари. Но дикари ли?» (Пг. IV. 99).
Пленяет тихая и благостная смерть старика Аверкия в рассказе «Оброк» («Худая трава»). Смертельно больной и близкий к кончине он, на слова дьячка о том, что смерти не минуешь, отвечает: «Избавь, Бог! Как можно того миновать! <…> Я вон, жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И Бог оброку требует… <…>. Нет, как можно… А то бы столько греха развелось!»391
Но уже тут Бунин отмечает слабое сознание мужиком собственной жизни, ее вегетативный характер: перед смертью Аверкий «делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок всё, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны»392.
Из дневников Бунина видно, с какой настойчивостью он в деревне выпытывал мужиков о смерти. Сторожу Якову (прототип Якова Демидыча в «Божьем древе») он излагает теорию Мечникова и хочет узнать его мнение, но теория на Якова не производит никакого впечатления, и он реагирует на рассказ с насмешливым равнодушием: «Потом разговор о старости, о смерти. Я рассказал ему о Мечникове. – Да, конечно, стараются, жалованье получают…»393.
В рассказе «Божье древо» разговор этот передан следующим образом: «– Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь? – Как для чего? Вот ваш сад караулю. – Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь? – А Господь его знает <…> – А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие? (теория «живой жизни» и здесь излагается иронически – Ю. М.) – Нет, это я бы заскучал» (М. V. 364).
Разговоры с мужиками всё более подводят Бунина к мысли, что равнодушие мужиков к смерти есть не что иное, как слабое осознание ее, неверие в смерть. Они о ней просто не думают. Яков на все вопросы о смерти отвечает прибаутками: «Когда будем помирать, тогда будем горевать» (М. V. 360). «Двум смертям не бывать, одной не миновать» (М. V. 363) и т. д. «Видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересен», – замечает Бунин (М. V. 363). Как, впрочем, и разговор о Боге: «Разговор о Боге тоже перевел на шутку» (М. V. 364).
Особенно пристальный интерес у Бунина вызывает ставосьмилетний мужик Таганок. Прав ли Мечников в том, что к старости возрастает чувство жизни? Дает ли такое дивное долголетие некую мудрость? Ему кажется, что «чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть»394. Но на все вопросы Бунина Таганок может ответить лишь нечто невразумительное: «Что ж, хочется еще пожить? – А Бог его знает… Что ж делать-то? Насильно не умрешь»395. И воспоминания его ничтожны, как у Аверкия. Долголетие само по себе не дает ни мудрости, ни чувства жизни. (Вспомним вновь восхищение Бунина тем поразительным пониманием жизни и чувством жизни, которое он находил у юноши Лермонтова.)
В рассказе о Таганке – «Сто восемь» («Древний человек») – мотив загадочного отношения русского мужика к жизни и смерти (предполагаемой его мудрости) тоже выражается еще в виде вопроса, но вопрос этот уже чисто риторический и в нем ясно слышится отрицание: «Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься: человек ли перед тобой?» (Пг. V. 212).
Еще определеннее это отрицание выражено в дневнике: у мужиков «к смерти вообще совершенно тупое отношение. А ведь кто не ценит жизни – животное, грош тому цена»396. А также в стихе «Дедушка»: у деда глазки «со звериной пустотой», и чуя приближение смерти он лишь «спешит, спешит – дожевать» (М. I. 358).
И всё же отрицание это не окончательно. Всё тот же вопрос возникает снова в рассказе «Мухи» (1924) – о мужике Прокофии с отсохшими ногами, лежащем третий год на нарах в избе, но пребывающем в радостном спокойствии, находящем удовлетворение в давлении мух на стене и говорящем о смерти: «Кабы она уж правда была так страшна, никто