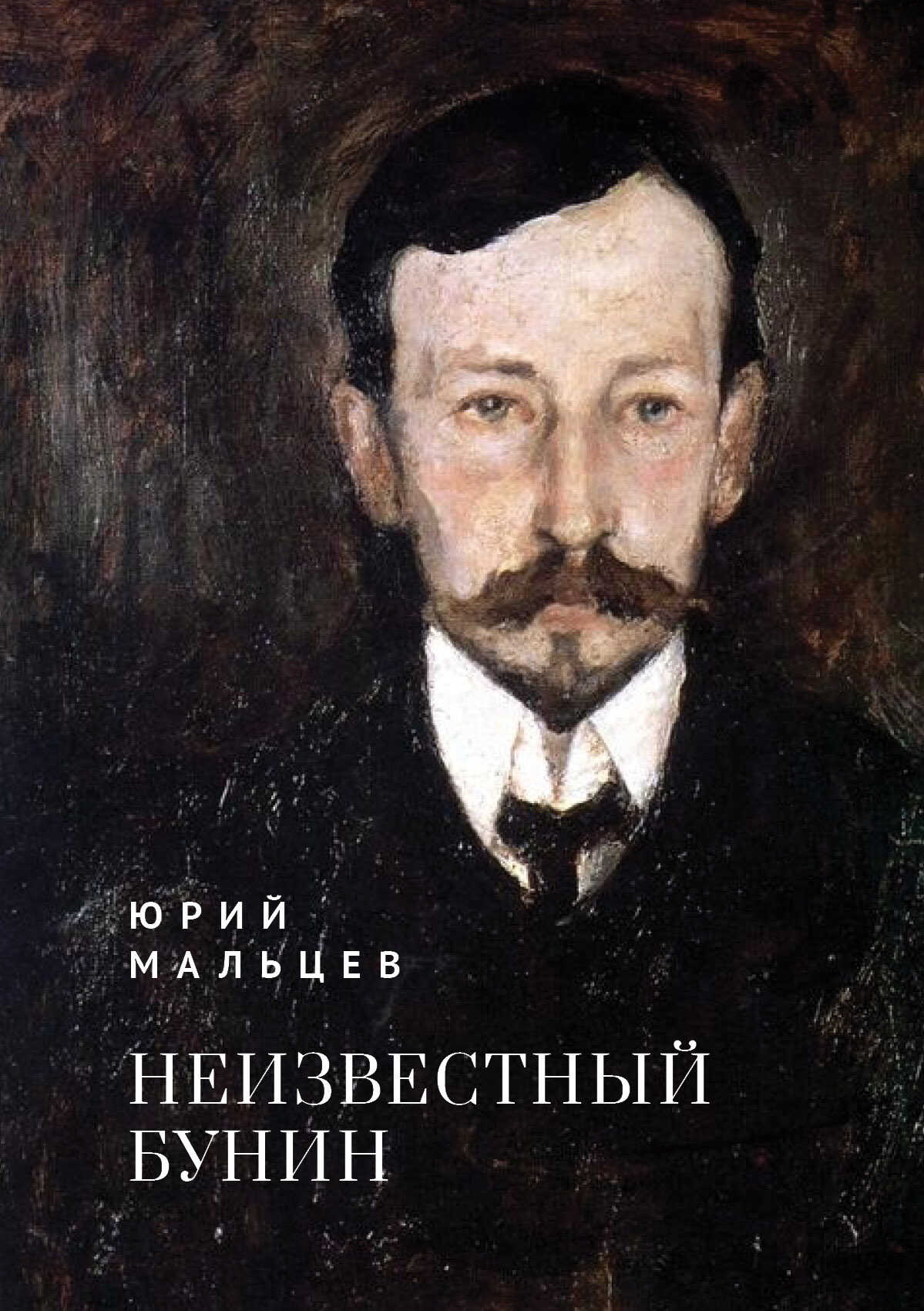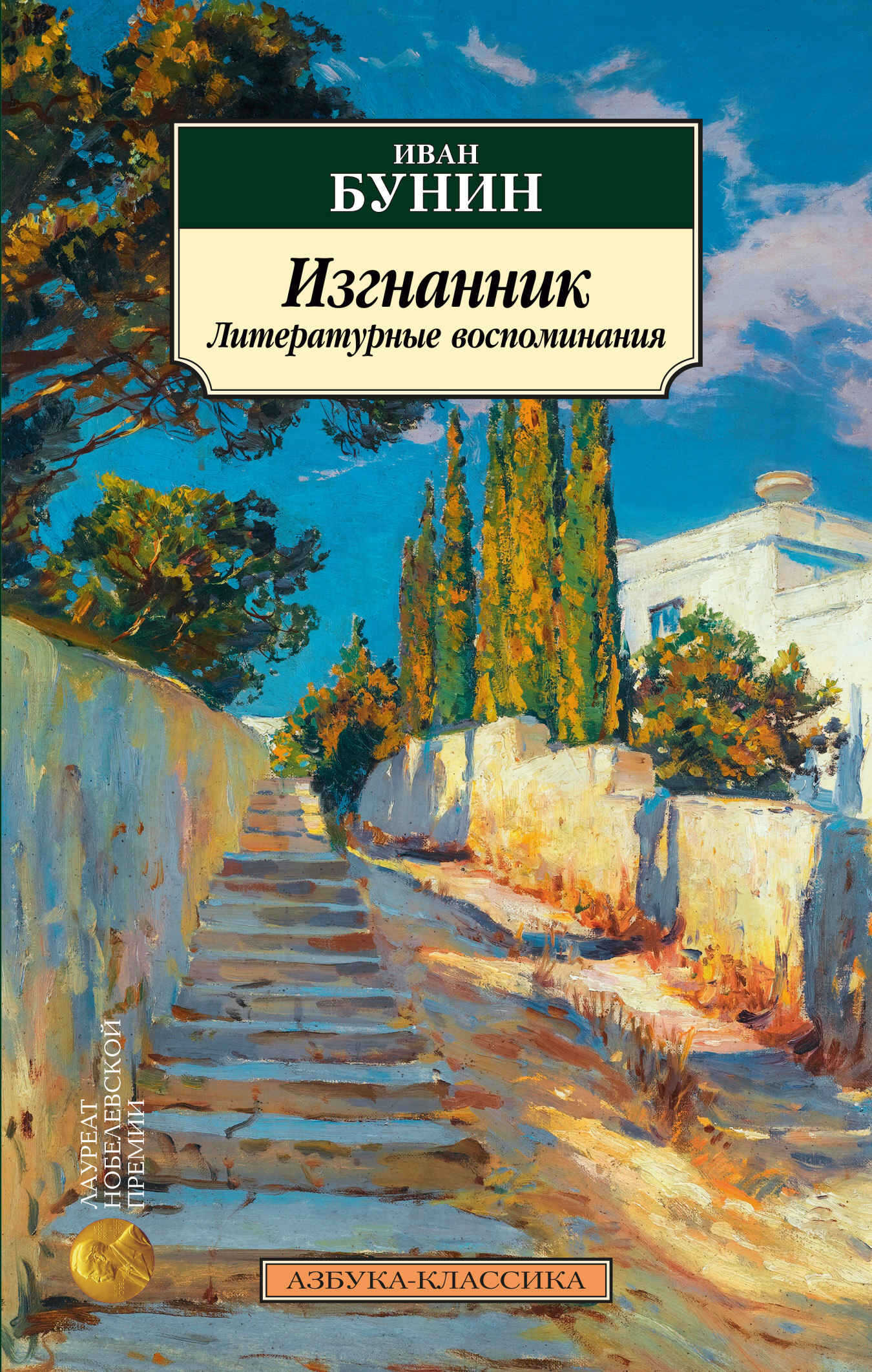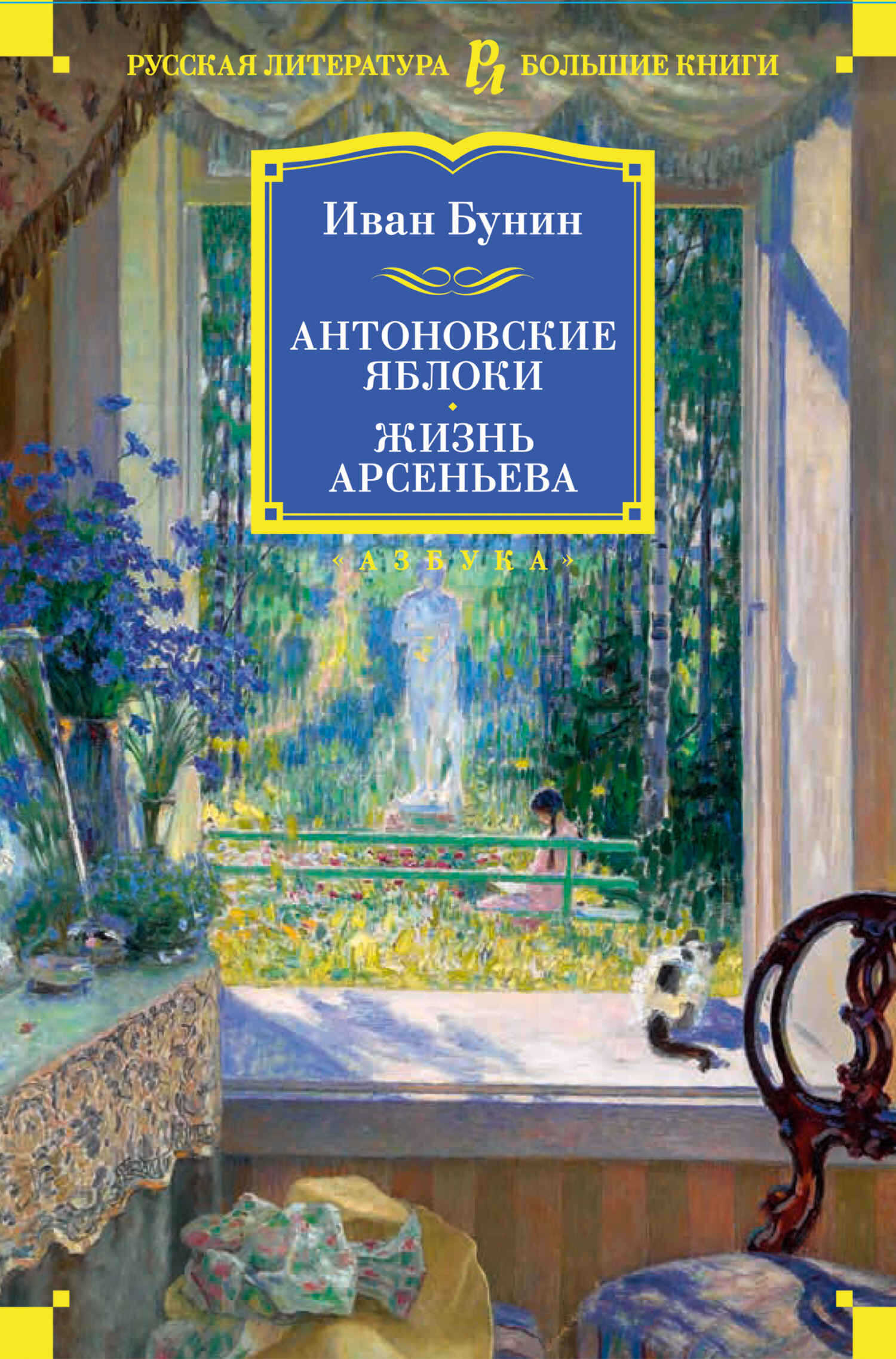Шрифт:
Закладка:
И всё же, хотя может показаться, что Бунин здесь целиком принимает буддийский пессимизм, его подлинное мироощущение иное. Буддизм несомненно пленял его (в разговоре с И. Одоевцевой он даже сказал однажды, что чуть не стал буддистом406). Он проникался его возвышенной безмятежностью, радостью собственного исчезновения и слияния со Всеединым, но это было лишь преходящее настроение, подобное тому, которое так великолепно описано Томасом Манном в «Будденброках», где Томас Будденброк при чтении Шопенгауэра испытывает чувство небывалого расширения собственной души и ощущение, будто упала какая-то завеса и перед ним вдруг открылась глубина бесконечной дали, где отменены обманные формы пространства и времени. Это чувство вспыхивает в нем снова ночью при внезапном пробуждении, но совершенно исчезает утром и рассеивается навсегда дневным светом. Так и у Бунина. Он говорит Одоевцевой: «Если бы я опять мог, как тогда, проникнуться всем этим, не так тяжело было бы, мне кажется»407.
Буддийская мысль о преобладании страдания в нашей жизни Бунину, конечно, близка. Даже в своей нобелевской речи он говорит об этом: «Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали» (М. IX. 330). Тут бунинская мысль как бы смыкается с теми теориями начала века, которые пытались «научно» обосновать пессимизм: М. Ковалевский статистически доказывал количественное преобладание (70 %) в нашей жизни неприятных ощущений над приятными, а Э. фон Гартман доказывал интенсивное преобладание страдания над удовольствием408.
И буддийское ощущение ничтожества и бренности человеческого бытия, даже его ненужности, тоже было знакомо Бунину. Из его дневника мы узнаем, что им был задуман рассказ о девушке, побывавшей в летаргии (почти в могиле) и безучастной ко всему в жизни409, – кто хоть на миг уже освободился от жизни, тому уже трудно снова привыкнуть к этому бремени (вспомним снова фразу из юношеского письма Бунина: «Не могу привыкнуть к жизни»).
И всё же пессимизм Бунина иного рода. Ужасным ему кажется не преобладание страдания над радостью (эти чередования тени и света для него и есть жизнь), а утеря самой способности упиваться радостью бытия и страдать, утеря их еще при жизни (как у англичанина в «Братьях») или вместе с жизнью. Его подлинный голос со всей силой и страстью звучит в финале рассказа «Цикады»: «Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним – легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов <…>. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением, сладострастно погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней… Нет, еще не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вожделенно мне это ночное лоно… Боже, оставь меня!»410.
Даже если это лишь сладостный обман, пусть он продлится еще. Нет ничего прекраснее, чем это опьянение.
Сам Бунин называет здесь это упоение жизнью «сладострастным» и «вожделенным». И действительно, самым сильным и захватывающим переживанием в нашей жизни он считает любовь.
Сладкая отрава любви – вот тема, которая вдруг резко прорывается на первый план в предреволюционных рассказах Бунина и которая затем станет преобладающей.
Бунинская любовь – это не ερως (эрос) – разве что «эрос» доплатоновский, – a παθος (пафос), именно древний неистовый «пафос», захватывающий всё существо, а не вялая похоть или убогий разврат, характерный для нашей вырождающейся механической цивилизации (такую «любовь» он тоже покажет потом в рассказе «Барышня Клара»). Поэтому нельзя называть Бунина русским Мопассаном, как это делают некоторые критики. Такая неистовая оргиастичность любви, как у Бунина, необычна для новейшей литературы. К тому же, как верно отметил Крепе, у Мопассана нет идеи катастрофичности любви и нет взгляда на женщину, как на существо таинственное411. И уж, конечно, нет ничего похожего во всей предшествовавшей Бунину русской литературе, которая стыдливо обходила стороной физическую любовь.
Катастрофичность любви у Бунина вытекает из самого ее характера. Это разрыв с буднями жизни и выход в совершенно иное измерение. Это и падение в бездну и одновременно – к самому средоточию живой жизни, к бессмертию, сконцентрированному в одном мгновении любви. Уже в раннем рассказе Бунина «Осенью» мелькнул намек на это бессмертие: «Я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне прекрасным, как у бессмертной» (Пг. II. 231).
Такое состояние экстаза, граничащего с безумием, несовместимо с обычным течением будничной жизни, несовместимо с условиями земного существования и, следовательно, у любви не может быть счастливого житейского конца. В этом смысле характерен финал рассказа «Сын». Добропорядочная и вполне счастливая в своей семейной жизни госпожа Маро, захваченная вдруг любовью-страстью («пафос») к юноше поэту Эмилю, естественным концом их любовного свидания видит самоубийство: «Как? – сказала она с изумлением, почти строго. – Неужели ты думал, что я… что мы можем жить после этого? Есть ли у тебя что-нибудь, чтоб умереть?» (М. IV. 399, курсив мой. – Ю. М.). «После этого», после опыта неземного – возврат к будням оказался для них немыслим. Позже, в других рассказах о любви, у Бунина счастье влюбленных будет катастрофически прерываться какими-нибудь внешними обстоятельствами, но катастрофичность такой любви заключена в ней самой, и ее естественный конец с наибольшей чистотой показан именно здесь, в рассказе «Сын».
Здесь же особенно ясно видно, как хрупки такие «надстроенные» человеческие установления, как мораль, культура, эстетика и прочее. И семейные узы госпожи Маро, и поэзия Эмиля оказываются пустыми и легко отбрасываемыми прочь пустяками при столкновении с неистовой и слепой природной силой любви.
Эта слепая сила даже не останавливается перед табу кровосмешения (смутное взаимное влечение отца и дочери в рассказе «При дороге»). По-видимому, только сознание того, какое всеобщее возмущение тогдашней критики и