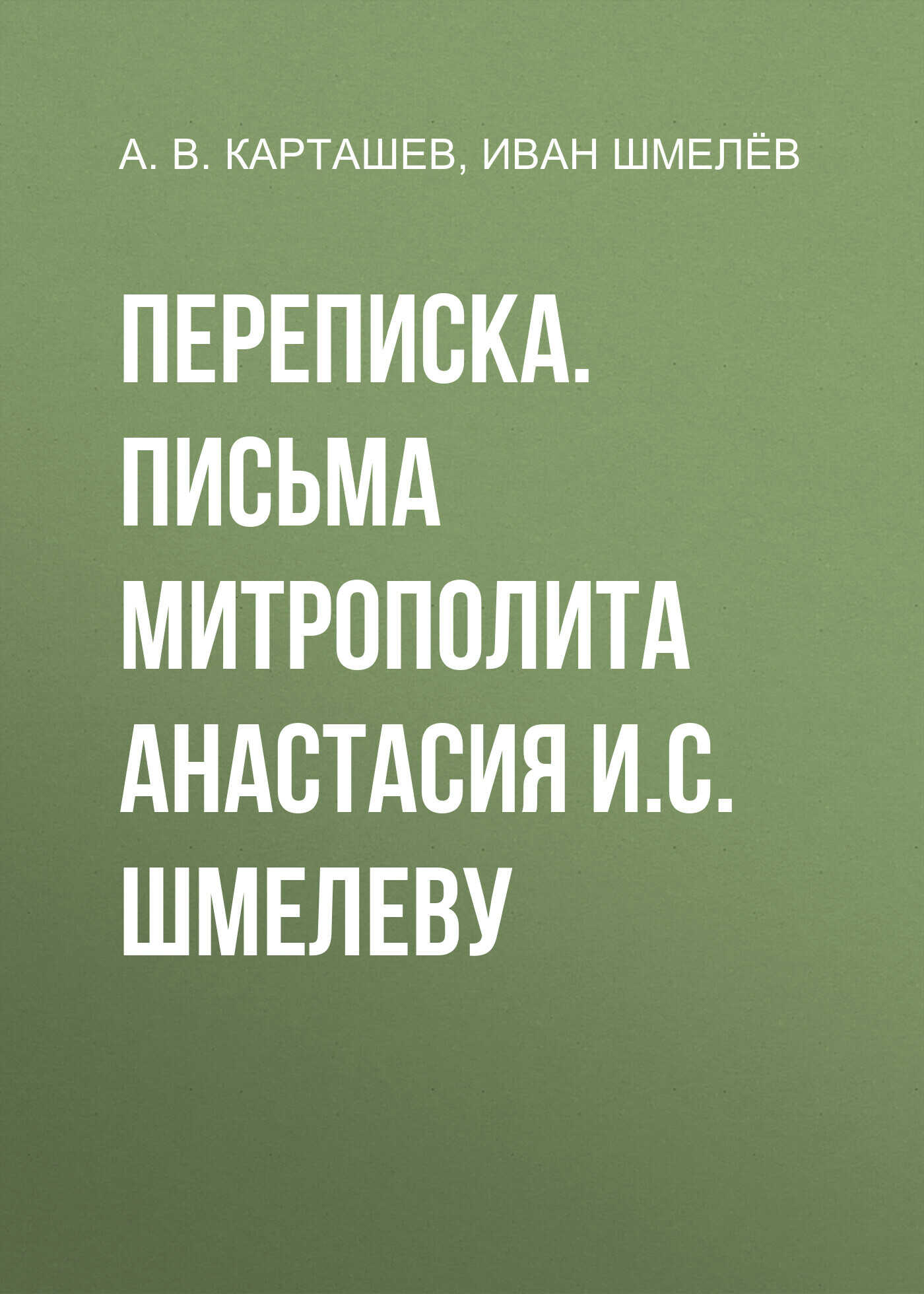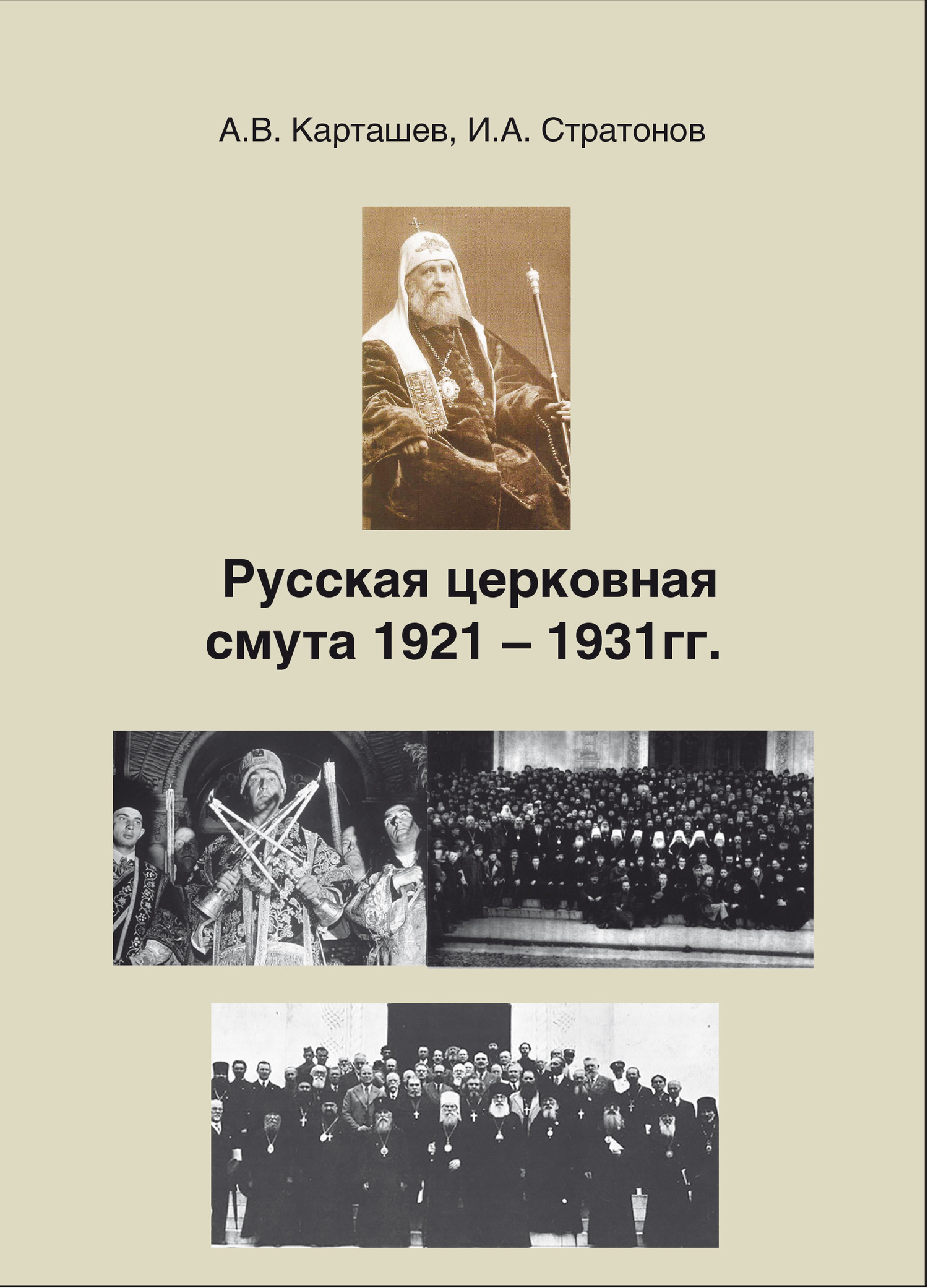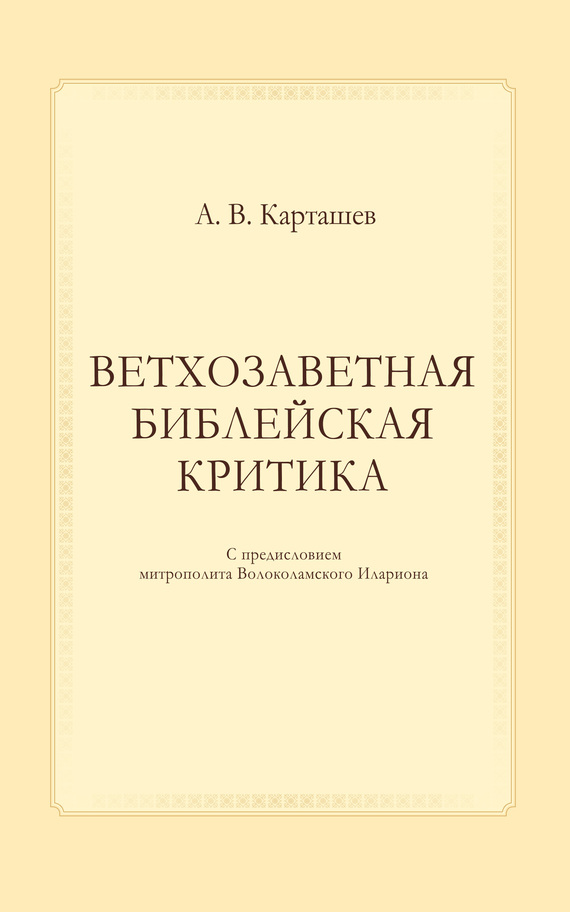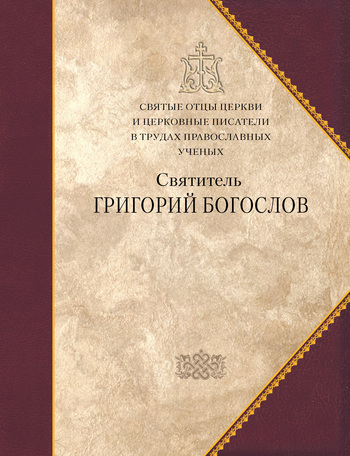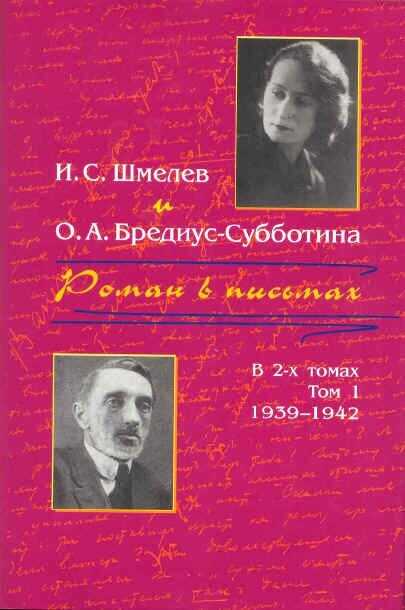Шрифт:
Закладка:
Публикуемая переписка писателя Ивана Сергеевича Шмелева и видного богослова, историка церкви Антона Владимировича Карташева разбросана по двум архивам. Письма Шмелева хранятся в Нью-Йорке, а Карташева – в Москве. Переписка двух русских изгнанников, познакомившихся в Париже, охватывает период с 1923 г. по 1950 г. В ней представлена жизнь русской эмиграции, наполненная любовью к оставленной Родине, неприятием советской власти, страхами, сомнениями, слухами, беженским бытом. Переписка передает атмосферу, царившую в Русском Зарубежье между двумя мировыми войнами.Издание дополнено также письмами к И.С. Шмелеву главы Русской Православной Церкви за границей митрополита Анастасия (Грибановского).Публикуется впервые.В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.