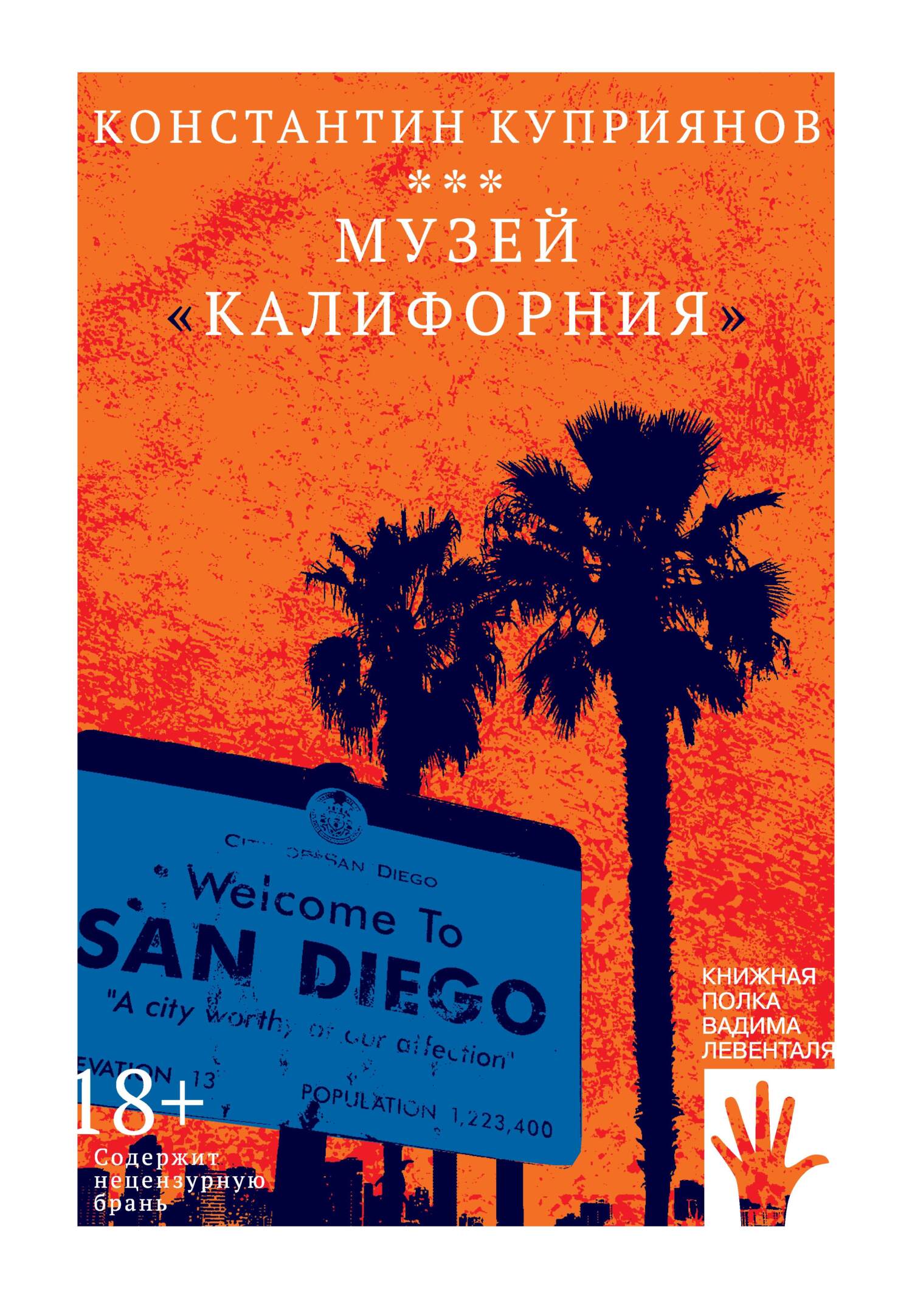Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В этой книге собраны тексты, которые были написаны рукой Исаака Ильича Левитана и тех, кто захотел сохранить свои воспоминания о нем. Задача этого издания – предложить читателю возможность погрузиться в мир одного из самых известных русских художников.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Исаак Ильич Левитан»: