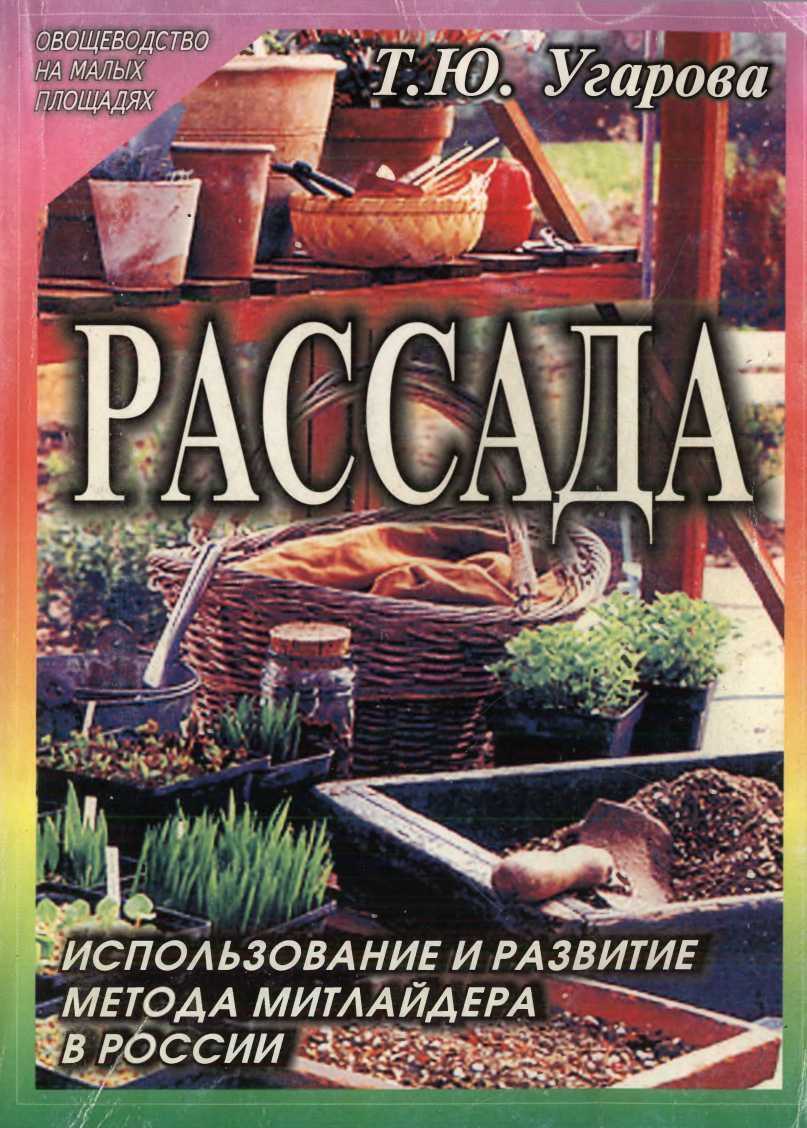Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Устав от коварства отца и брата, молодой дворянин Лэйн бежит из родного дома в далёкую страну Воснию. Ему говорили, что там, за морем, одни дикари, а золото меняет руки быстрее, чем куртизанка – своих кавалеров. Что короли материка жестоки и глупы, а их алчности нет предела. Что земли Воснии прокляты, и только безумец, ищущий смерти, решится стать их гостем.Лэйн думал, это лишь способ удержать его в клетке домашних стен, и полон надежды обрести в Воснии новый дом. Он начинает свой путь на боевых аренах, но тот ведёт его на поля сражений грядущей войны. Во тьме будущего ждут грабежи, мародёрство, предательства и реки крови. И когда Лэйн признаёт, что отец был прав, тьма уже захлёстывает его с головой…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «А. Л. Легат»: