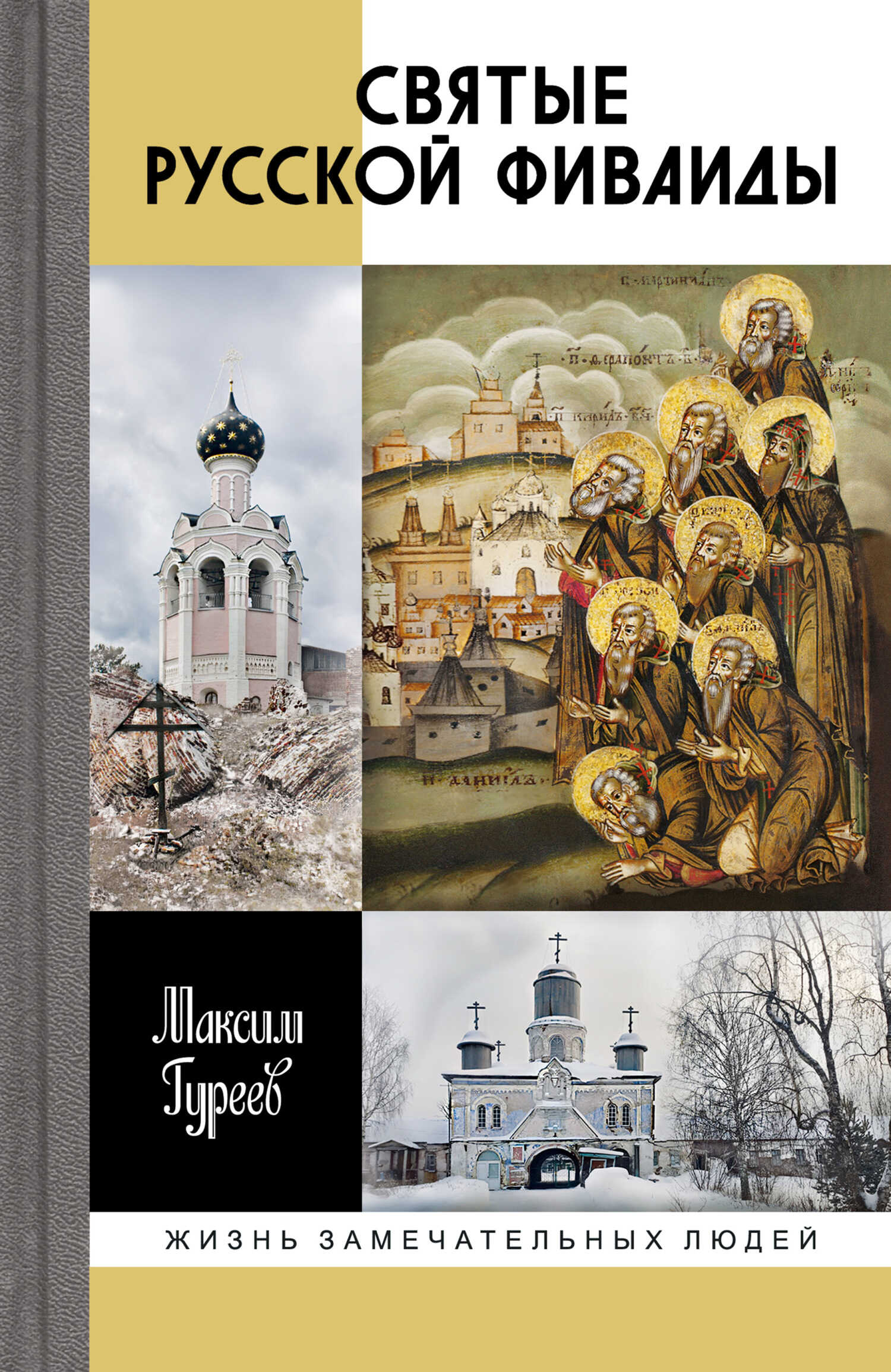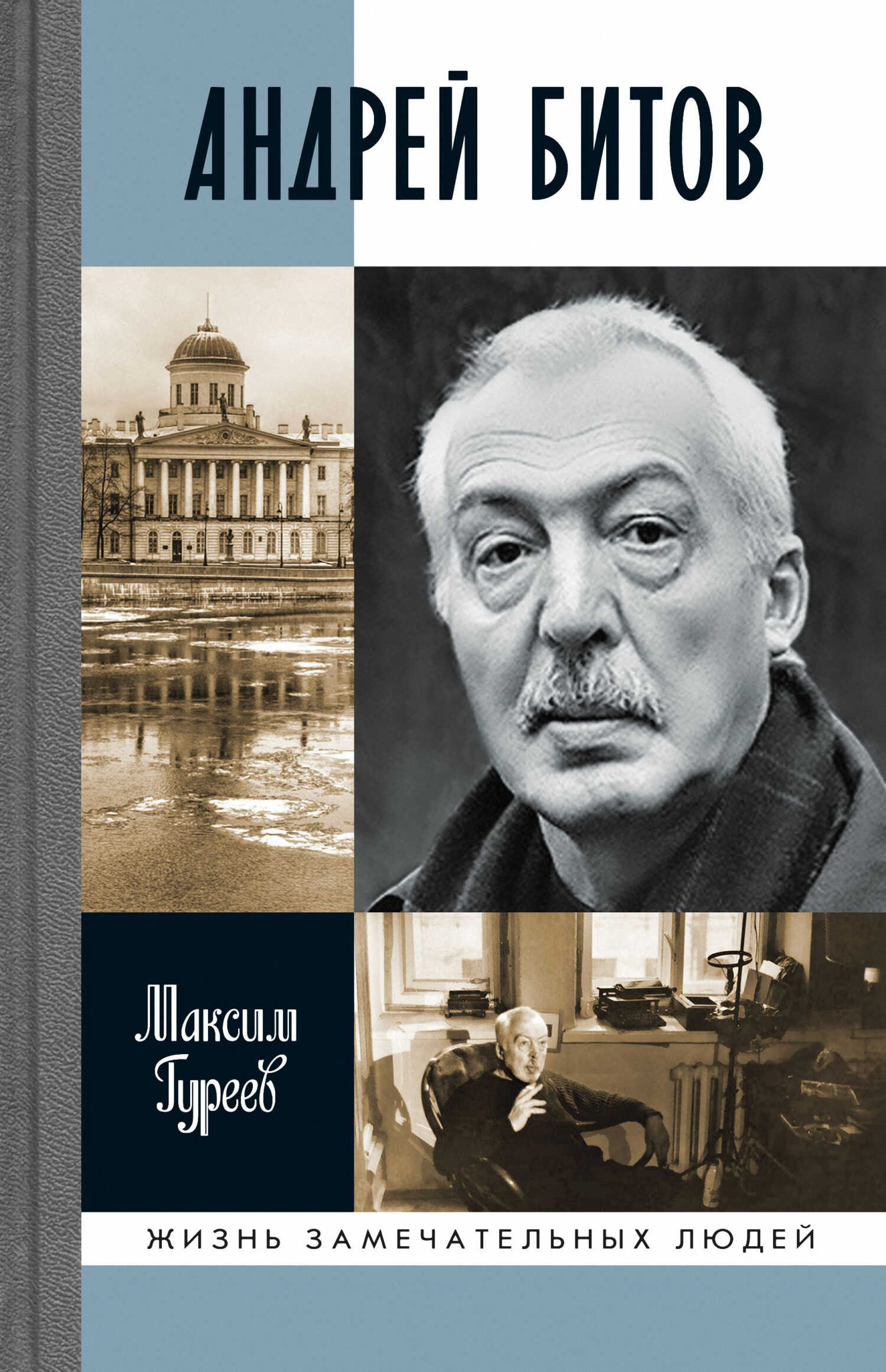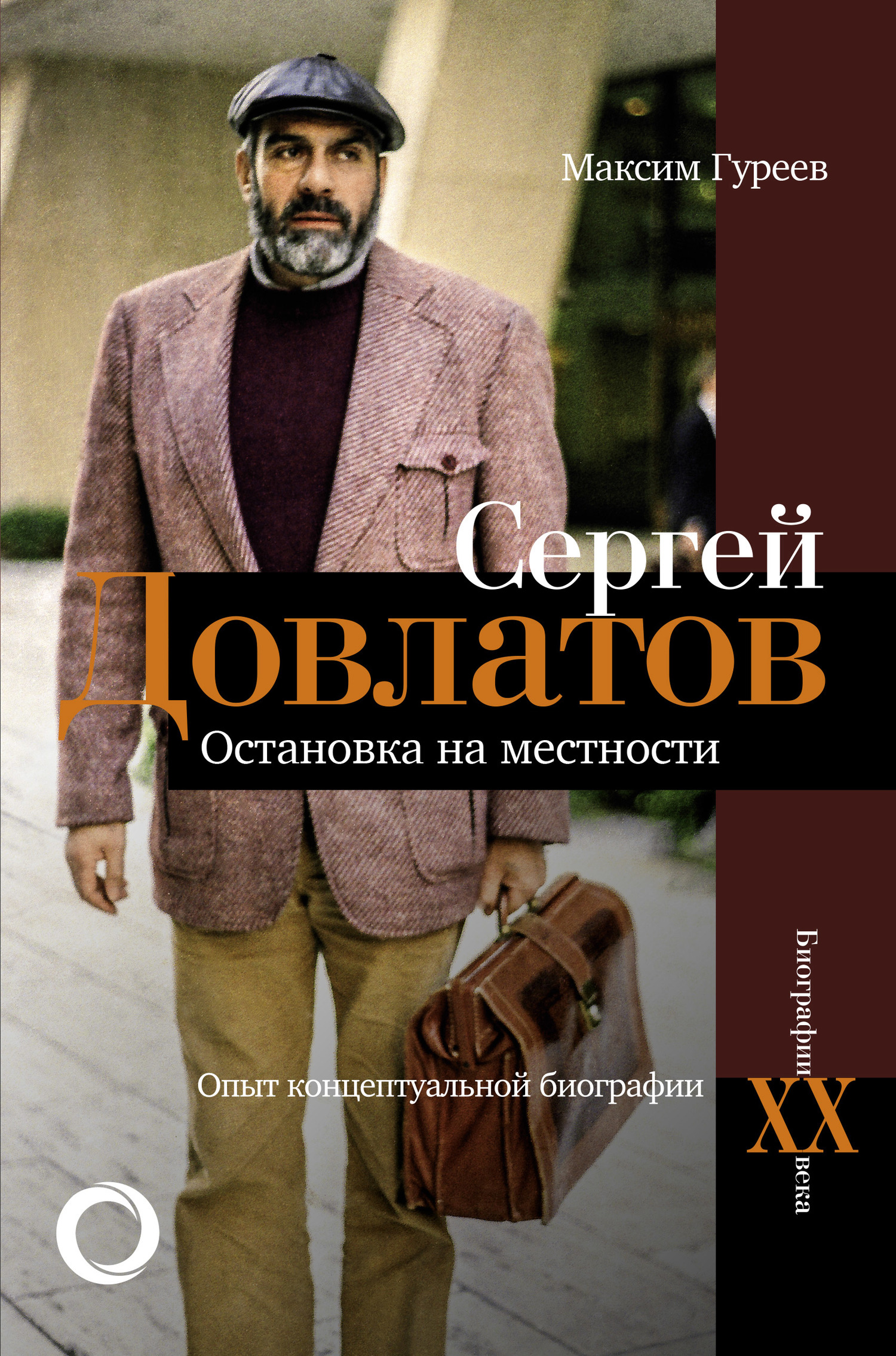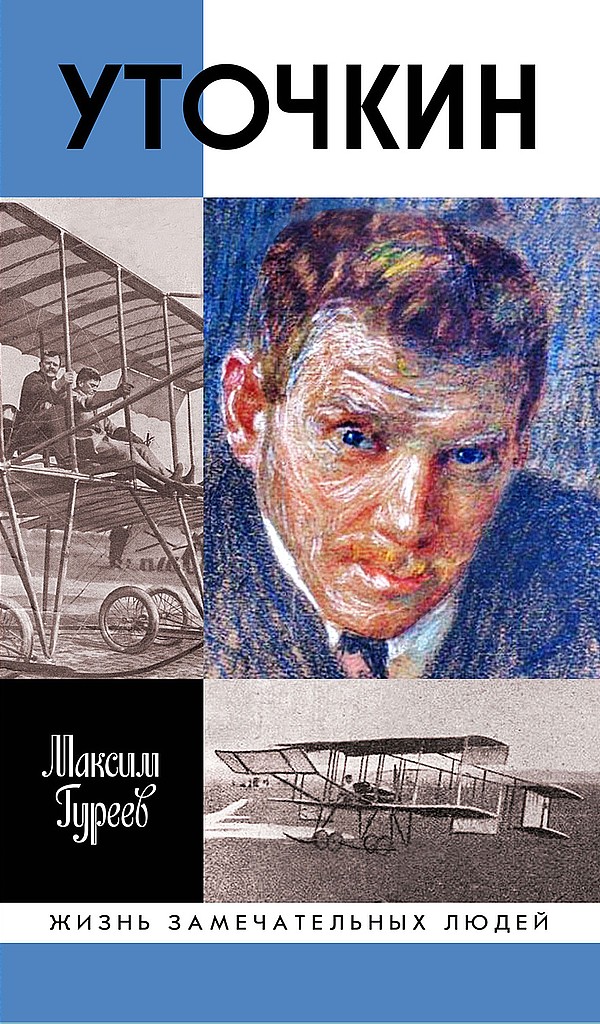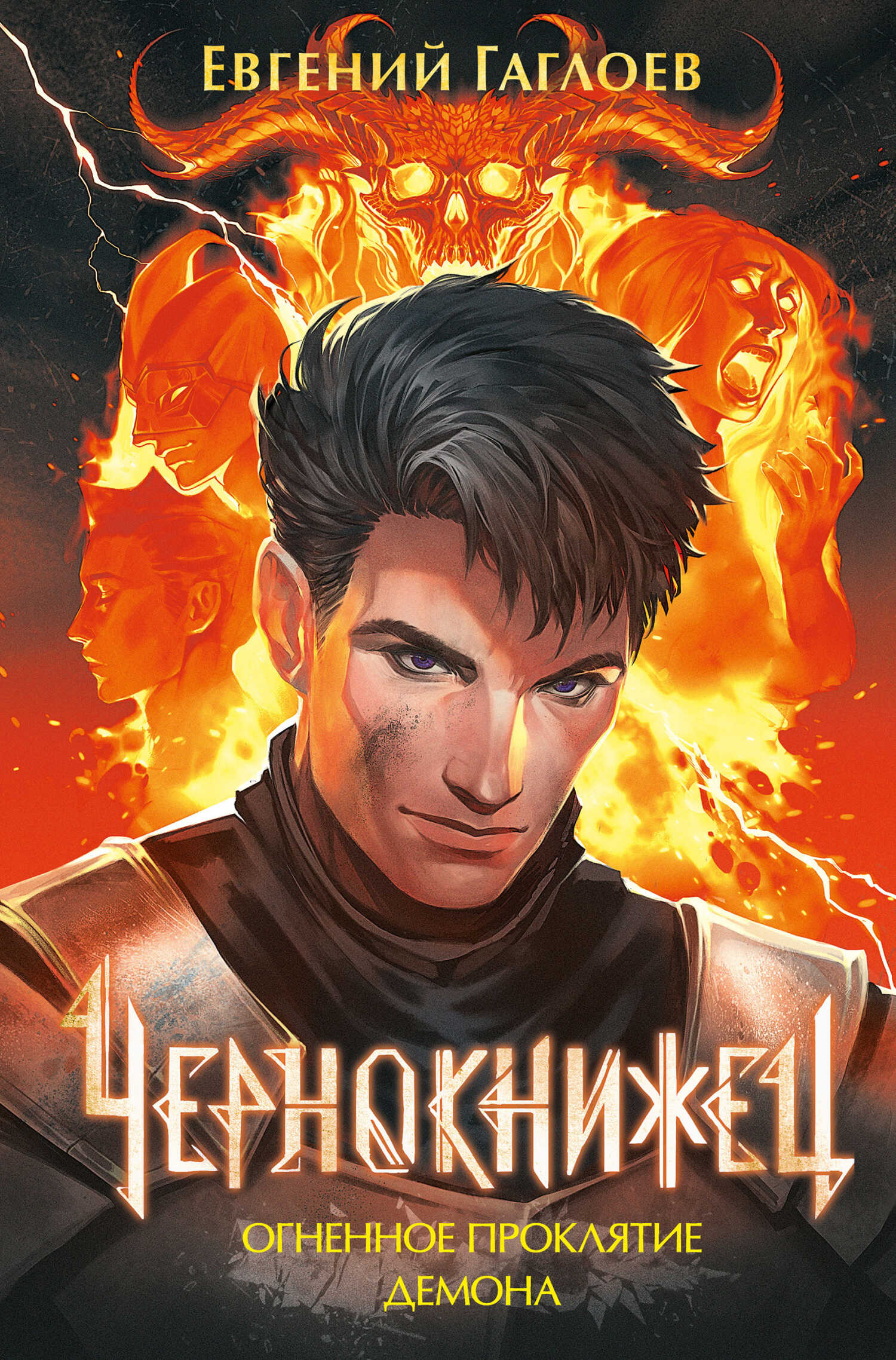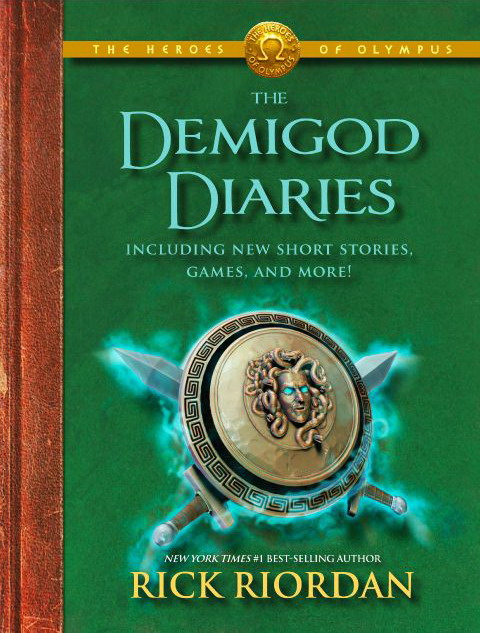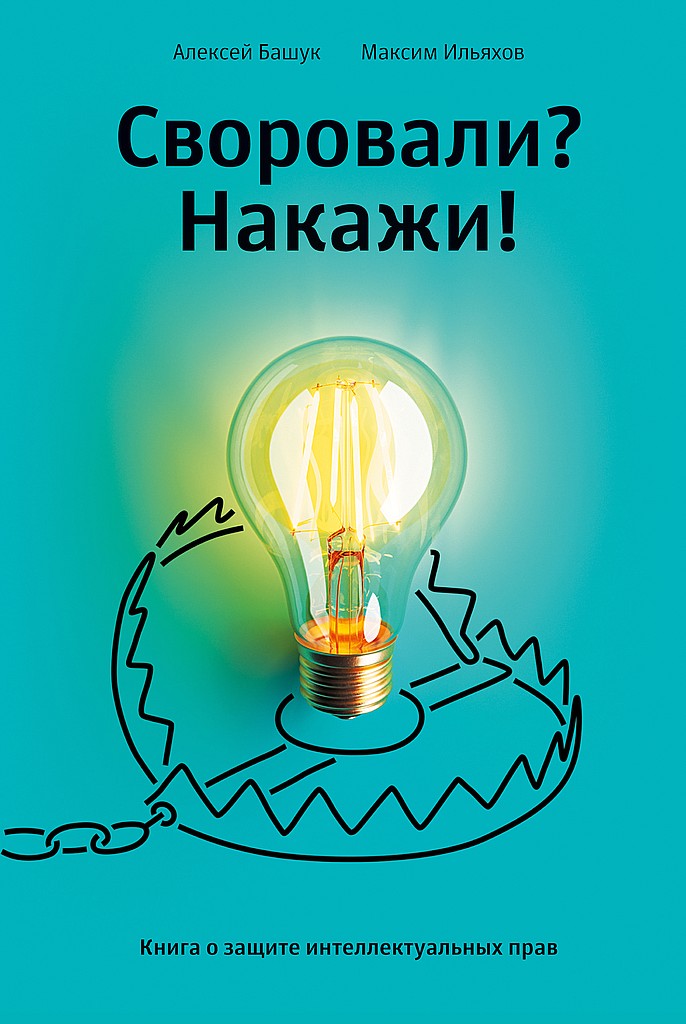Шрифт:
Закладка:
«Русской Фиваидой» с XIX века зовется обширная территория на севере нашей страны, в Вологодской и Архангельской областях. Это имя, данное в память о египетской колыбели древнего монашества, напоминает о деяниях преподобных отцов, устремившихся в XV веке в эти суровые и малонаселенные края и основавших здесь множество монастырей и пустыней. Там, в трудной борьбе с природой и человеческим несовершенством, творили свой духовный подвиг святые Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Новоезерский, Зосима и Савватий Соловецкие и другие. Сегодня многие созданные ими обители заброшены, а их дела и поучения малоизвестны. Книга писателя и режиссера-документалиста Максима Гуреева воскрешает память о святых подвижниках Русского Севера и связанных с ними местах, соединяя память о событиях прошедших веков с живыми впечатлениями очевидца.