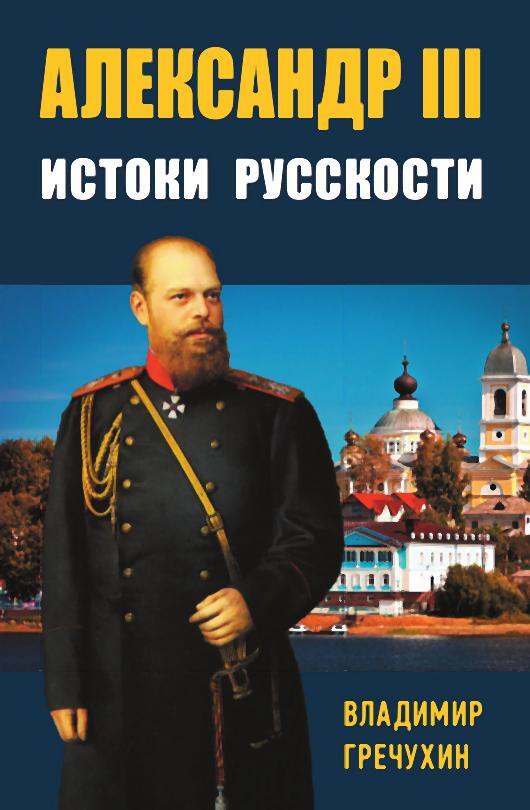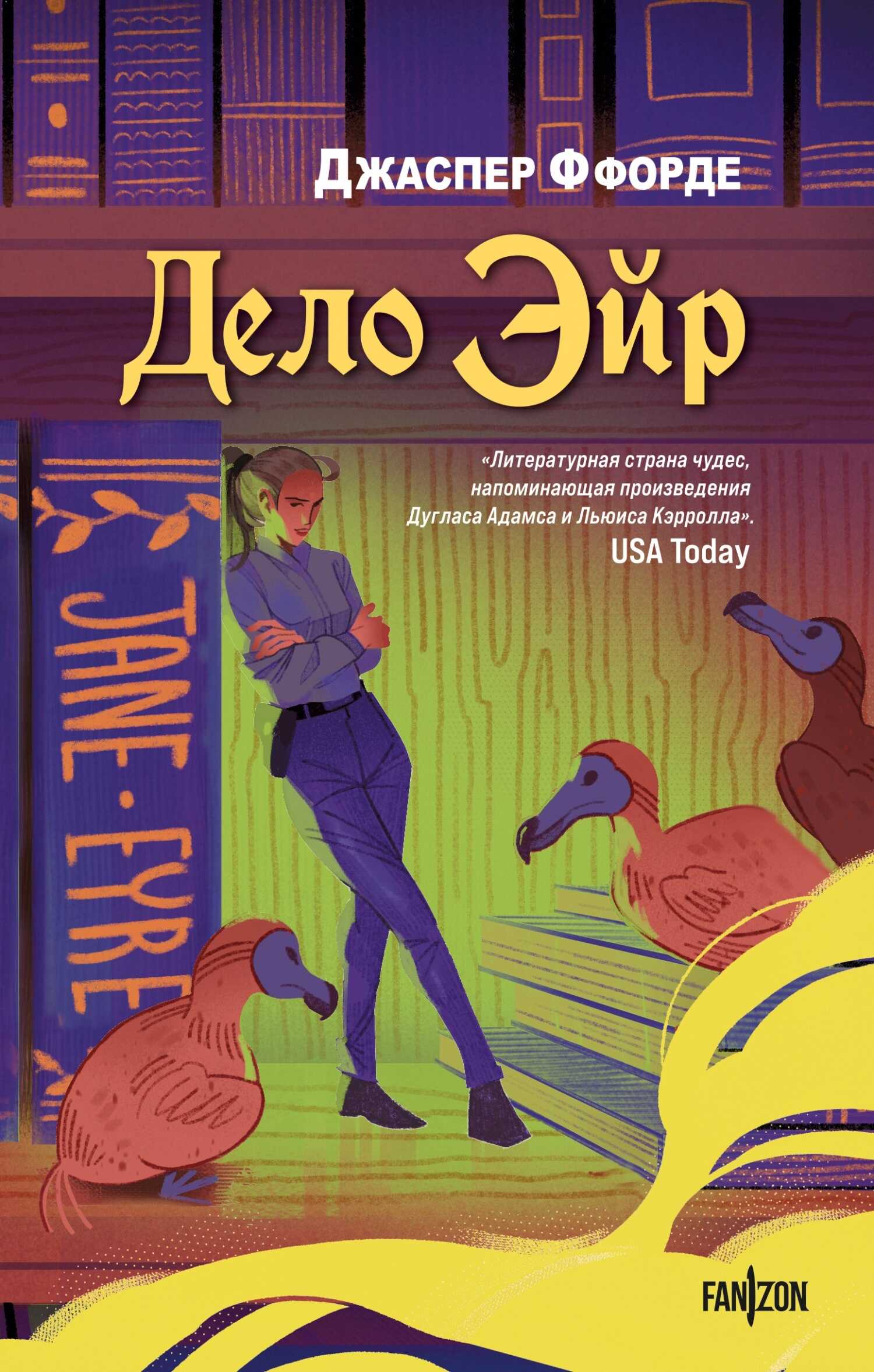Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
После долгих лет забвения замечательная книга выдающегося русского историка, друга Пушкина и Гоголя, возвращается к читателю! Она посвящена вопросам богосотворенности мироздания, а также разбору необъяснимых, сверхъестественных случаев видений, предсказаний и вещих снов, т.е. действий Промысла Божия в человеческой жизни. Особый раздел посвящен критике тех «модных философских толков», которые автор объединяет понятием «нигилизм» – позитивистских, социалистических и т.п. течений европейской мысли, заразивших русское общество в середине XIX в.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Петрович Погодин»: