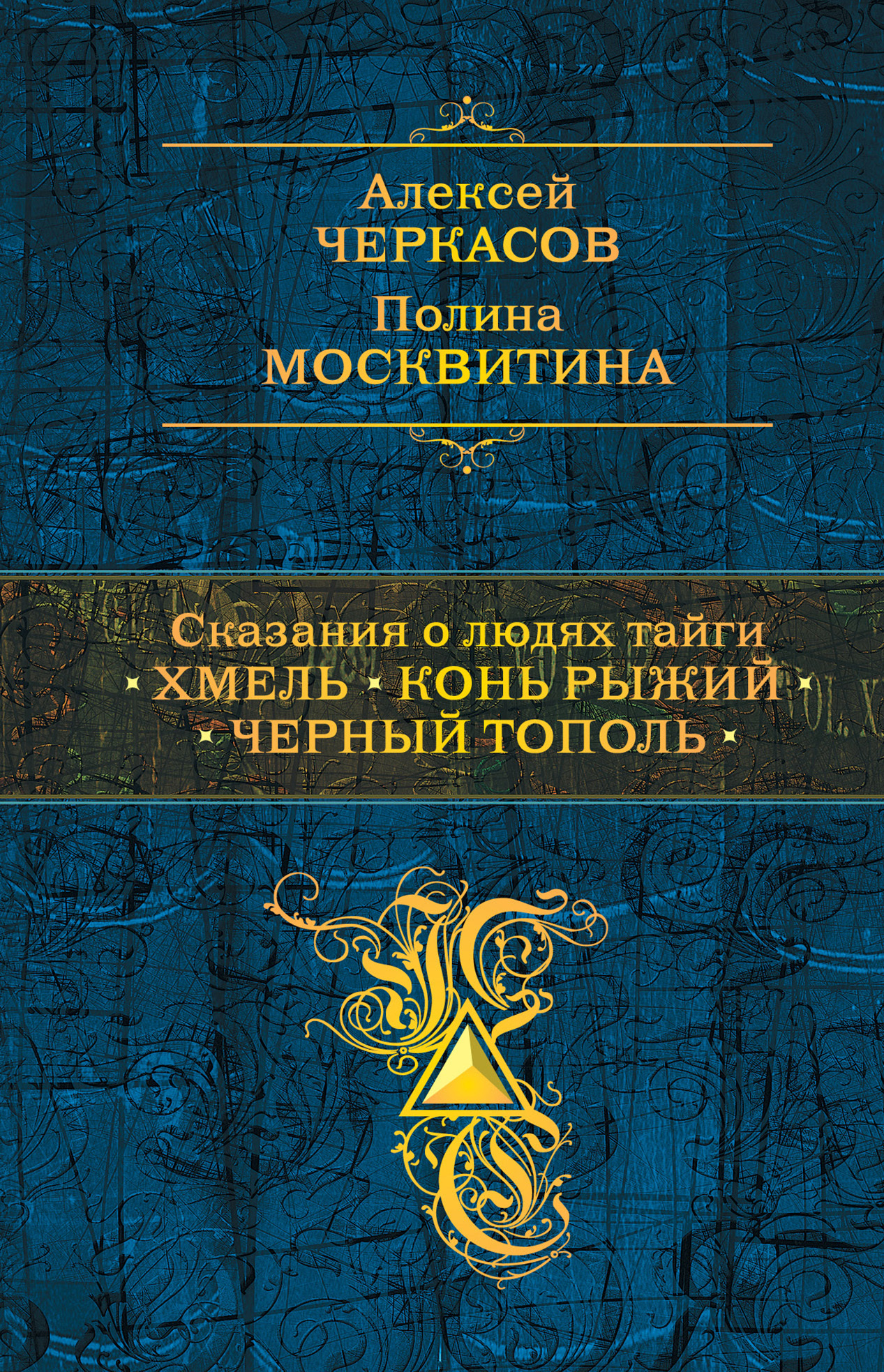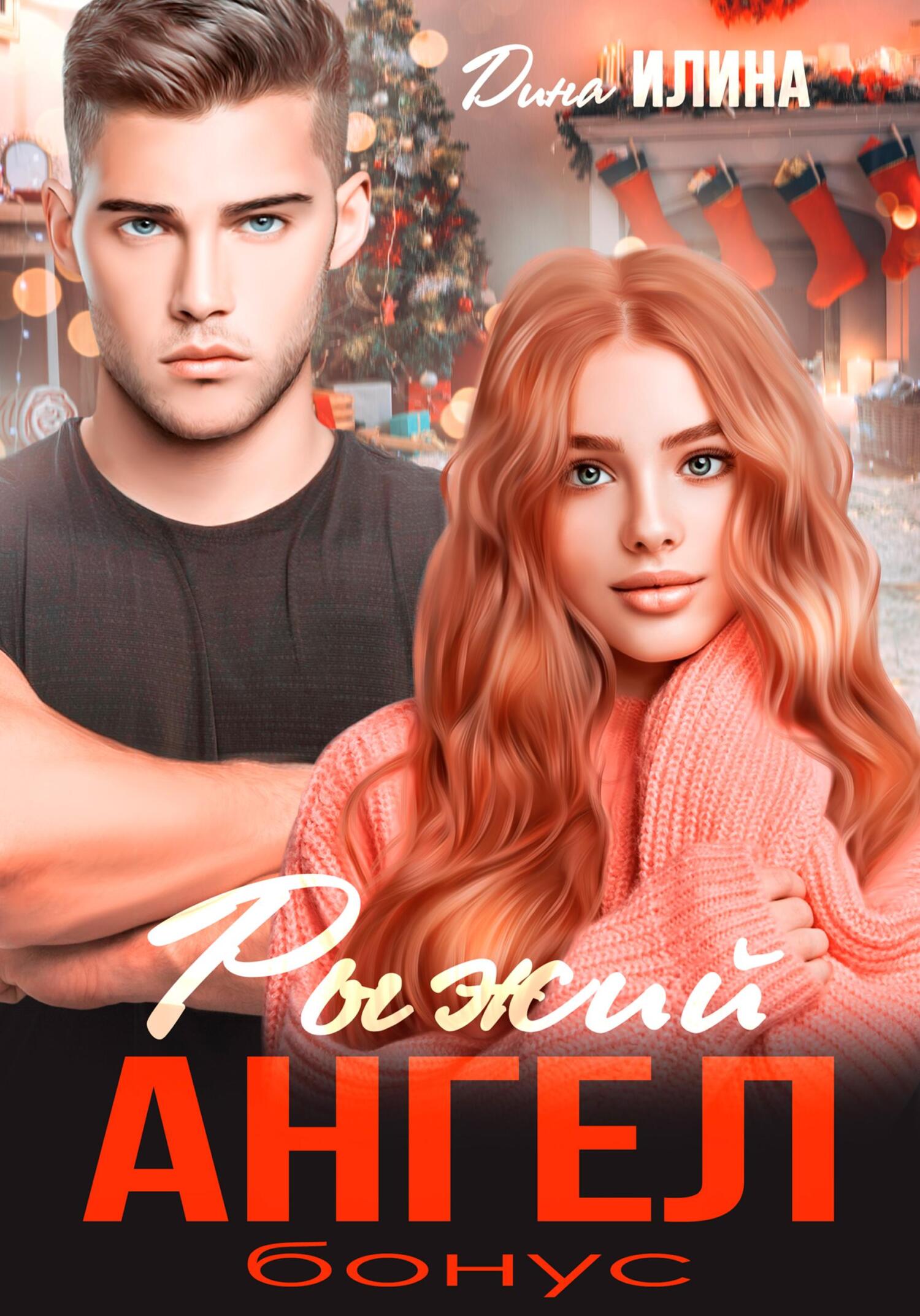Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Последняя патриотическая» – это книга о ненастной военной осени 2014 года в Донецкой Народной Республике. Автор, непосредственный участник описываемых событий, рассказывает о судьбах людей, с которыми он жил и сражался плечом к плечу. О тех, кто в 2014 году оставил семью, работу и мирную жизнь, взял автомат и пошел защищать Родину. Это для таких, как они, за ЦУМом в центре Макеевки висел огромный, замытый дождями плакат – бородатый ополченец в тельняшке, с автоматом наперевес, и, точно огонь, слова: «Стань легендой! Армия Донецкой Республики». Какие люди! Какие судьбы! Вся жизнь – неслыханный шедевр. Нам жить сто лет и не дотянуться, не дорасти до них никогда. Никогда не стать этой легендой.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Артур Валерьевич Чёрный»: