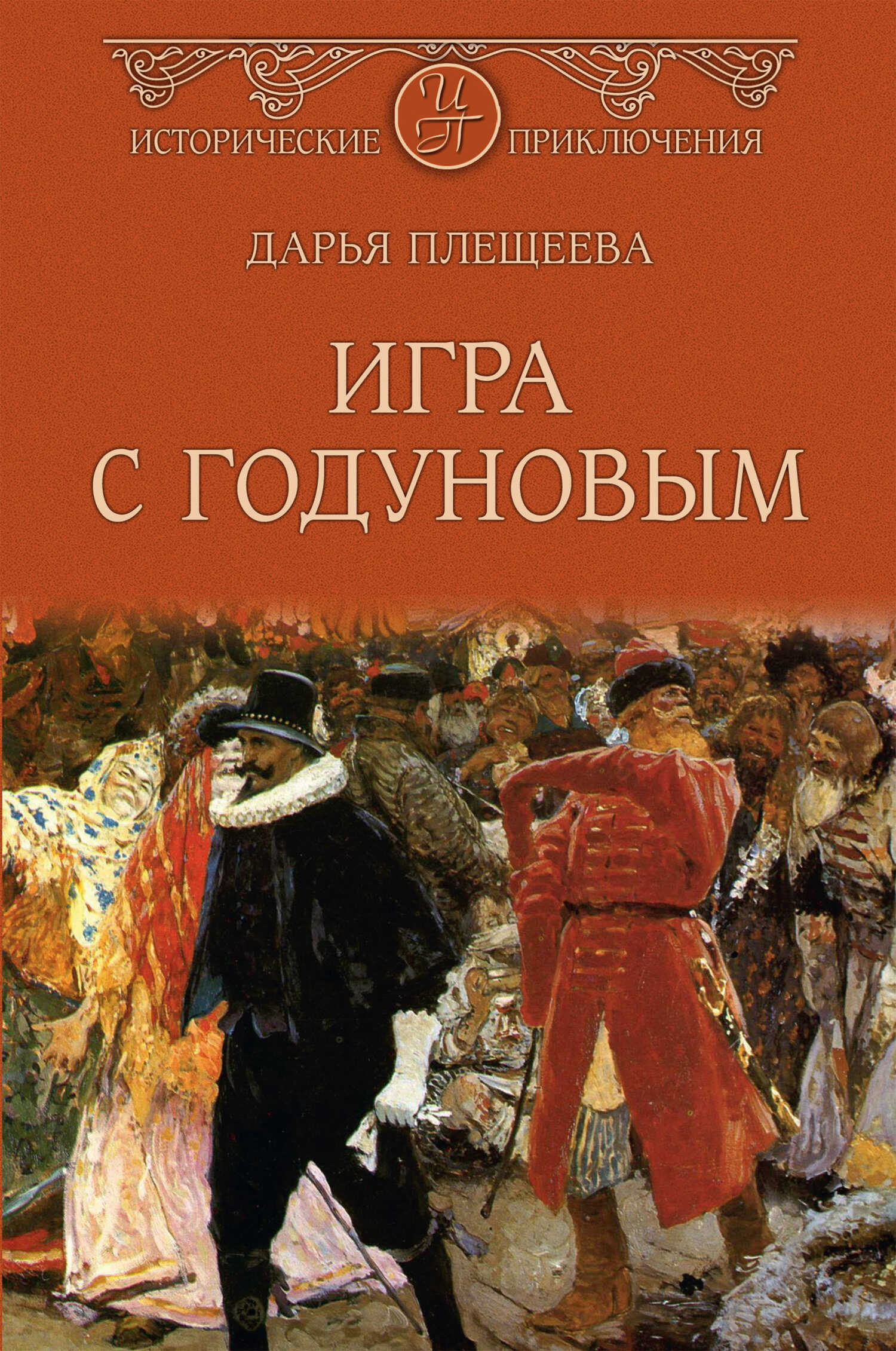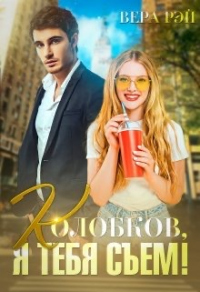Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Начало 1595 года. В Москву прибывает посольство казахского хана Тауекеля, чтобы провести важные переговоры об освобождении заложника, племянника хана – Ораз-Мухаммада. Приезд послов очень интересен живущим в Москве английским купцам, которые понимают: тут можно за спиной кремлевских бояр и Бориса Годунова заключить соглашения для более выгодной торговли с Востоком. Тем временем подьячий Старого Земского двора Иван Деревнин и его приятель, площадной подьячий Данило Воробей ночью спасают девушку в странном на взгляд московитов платье, не понимающую ни слова по-русски. Кажется, девушка оказалась опасной свидетельницей… но свидетельницей чего? Деревнину вместе с друзьями предстоит распутать эту интригу.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дарья Плещеева»: