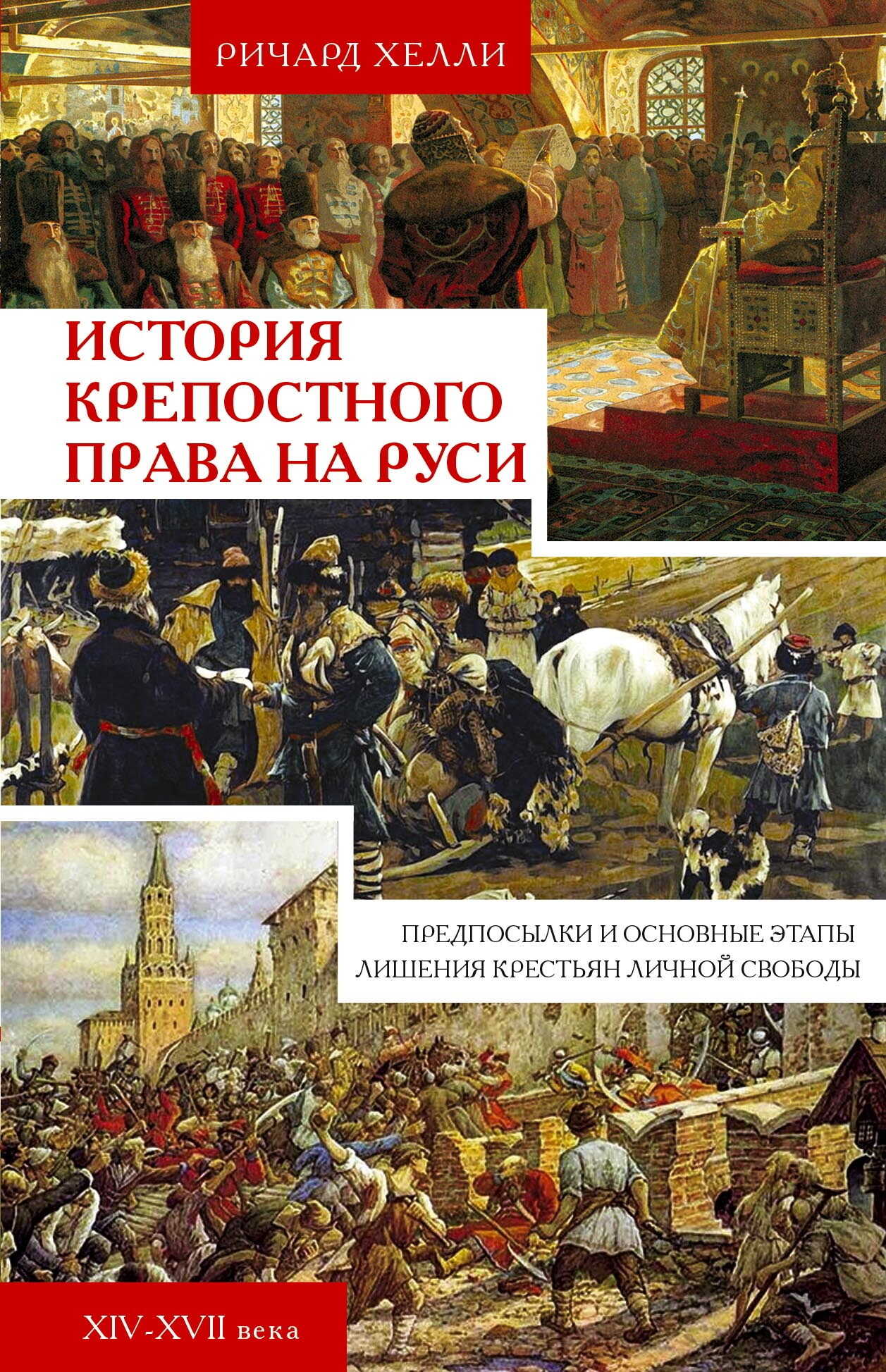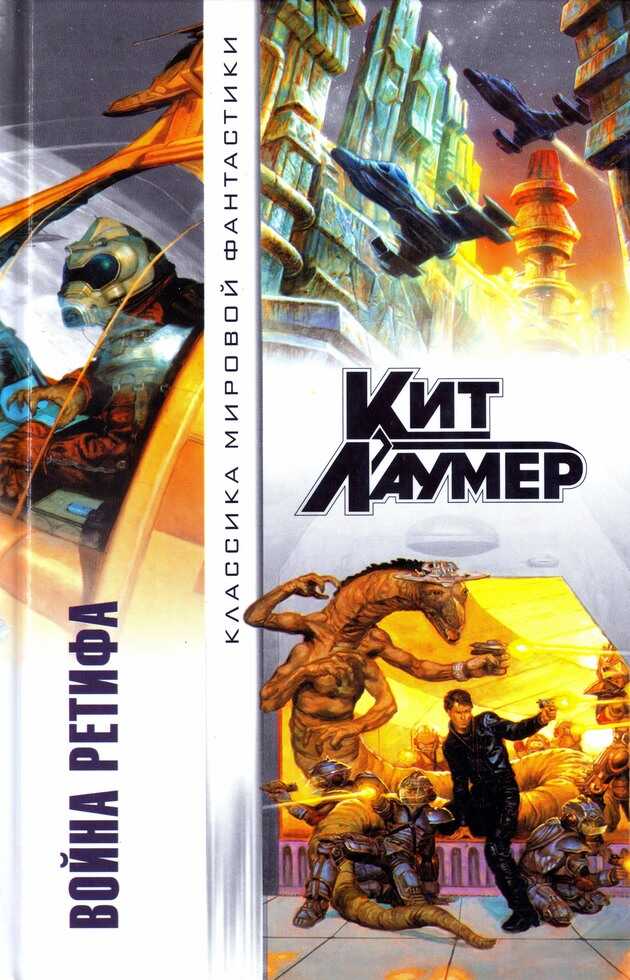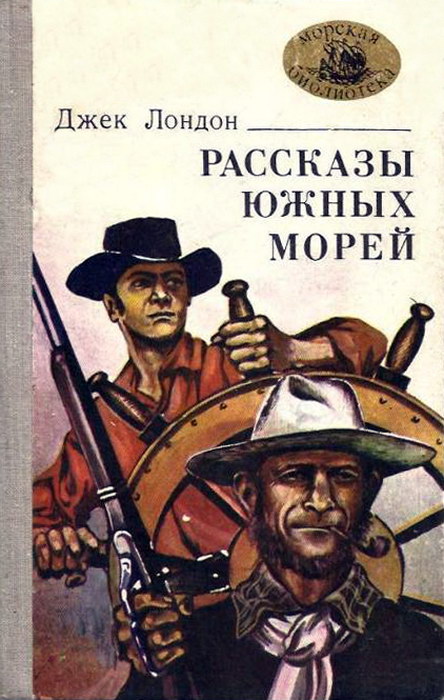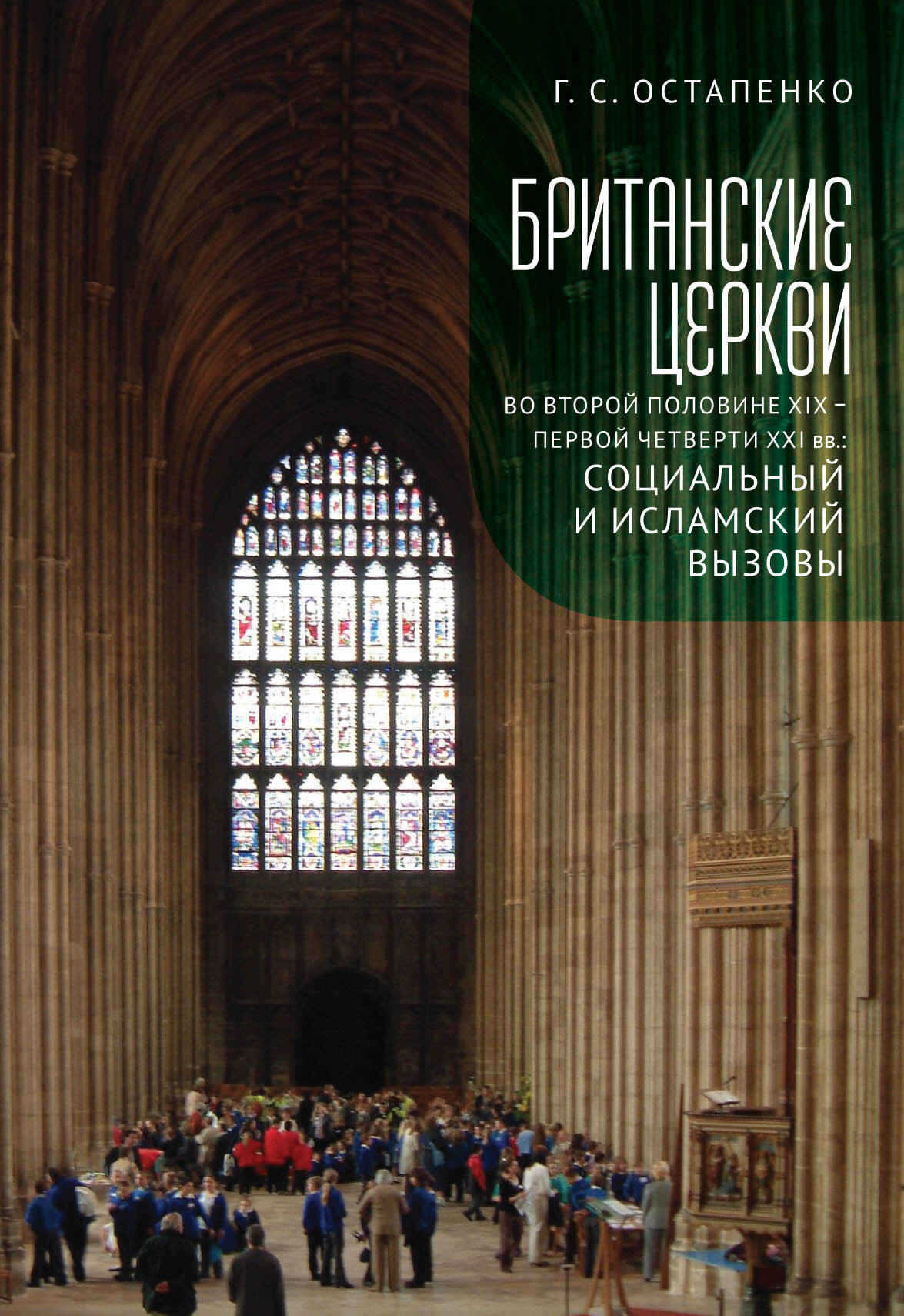Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Закрепощение крестьянства – один из наиболее острых и противоречивых вопросов русской истории. Американский историк, профессор Чикагского университета Ричард Хелл^, собрав и обобщив обширный материал по данному вопросу, выявил истоки и причины установления крепостного права со времен варяжского завоевания до реформ Петра I. Профессор Хелли рассматривает «указную» и «безуказную» концепции возникновения крепостного права, такие понятия, как Юрьев день, Заповедные и Урочные лета, а также одну из причин закрепощения – военные реформы XVII века, в результате которых произошел подъем среднего служилого сословия, нуждавшегося в стабильном источнике доходов.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ричард Хелли»: