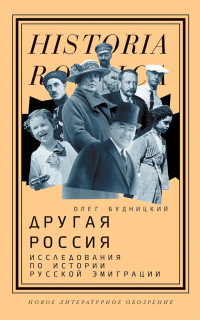Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
…Тов. Деготь рассказывает полные захватывающего интереса эпизоды своей жизни и борьбы в России и в разных странах Европы. Книжка т. Деготя освещает несколько моментов мировой революционной эпопеи, которая разыгрывается на наших глазах, коллективный герой которой — пролетариат…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Александрович Деготь»: