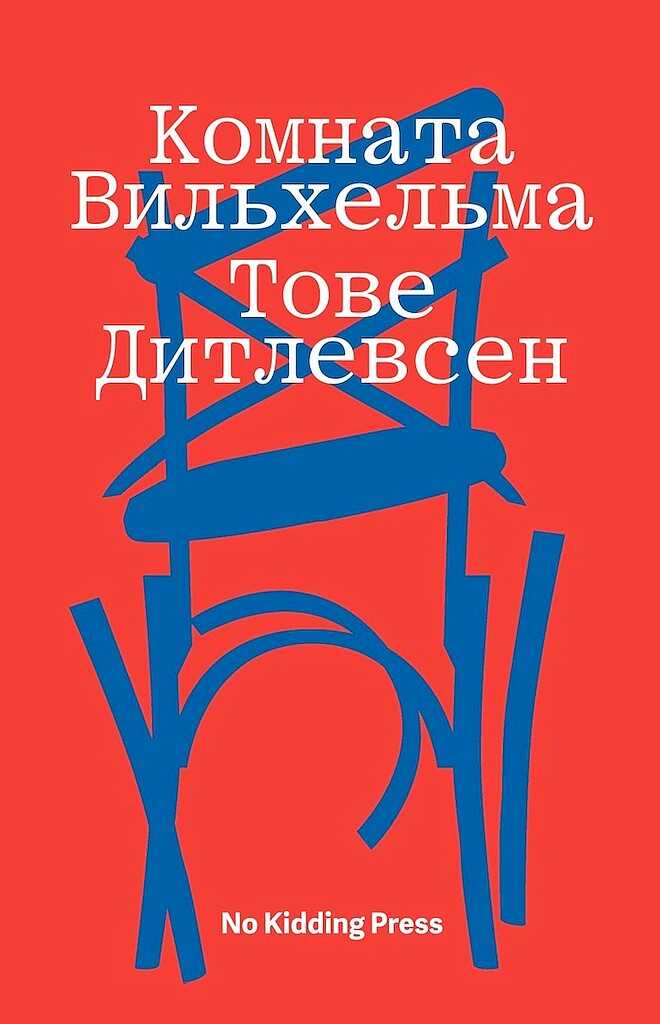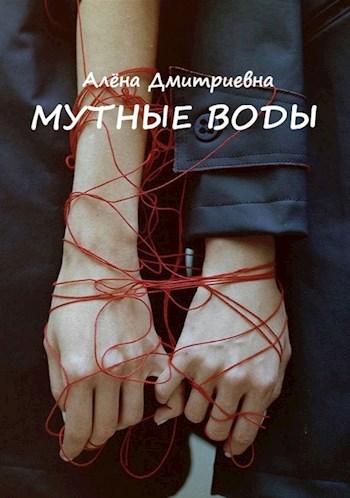Шрифт:
Закладка:
Успешная писательница Лизе Мундус тяжело переживает развод с мужем Вильхельмом. Их долгая совместная история складывается из напряжения и соперничества, любви и ненависти, череды измен, мучительного притяжения и отталкивания. Внутри брака они разрушают друг друга, за его пределами — всех, кто попадается им на пути. Лизе дает в газете объявление о поисках нового мужчины, на которое откликается Курт, молодой человек с туманным прошлым. Он поселяется в бывшей комнате Вильхельма, но Лизе не находит покоя. Она публикует в таблоиде серию статей, где открыто рассказывает о крушении своего брака и вновь проходит по всем кругам семейного и личного ада. «Комната Вильхельма» — блестящий модернистский текст, хрупкий и жесткий одновременно. Дитлевсен разворачивает повествование как многослойную метафору потери смысла. Роман отражает опыт отношений Тове с ее четвертым мужем, журналистом и редактором Виктором Андреасеном, но автобиографичен лишь отчасти. Лизе Мундус, знакомая читателям по книге «Лица», живет в зыбком сумрачном мире, который держится на системе двойников и подмен. В нем сталкиваются и порой сливаются воедино рассказчица и героиня, литература и откровения в желтой прессе, бывший муж и его невнятный суррогат, нежный сын-подросток и мальчик Кай с ледяным сердцем, таинственные переговорщики, которые вторгаются в дом Лизе, и навязчивые болезненные мысли, которые разъедают ее сознание.