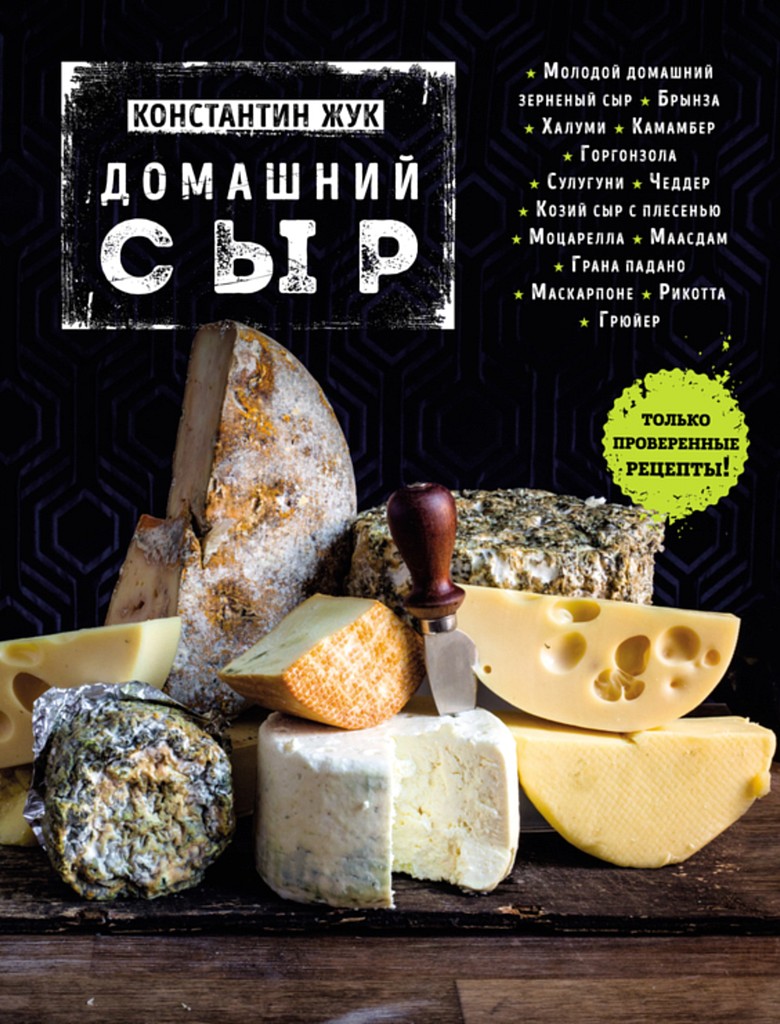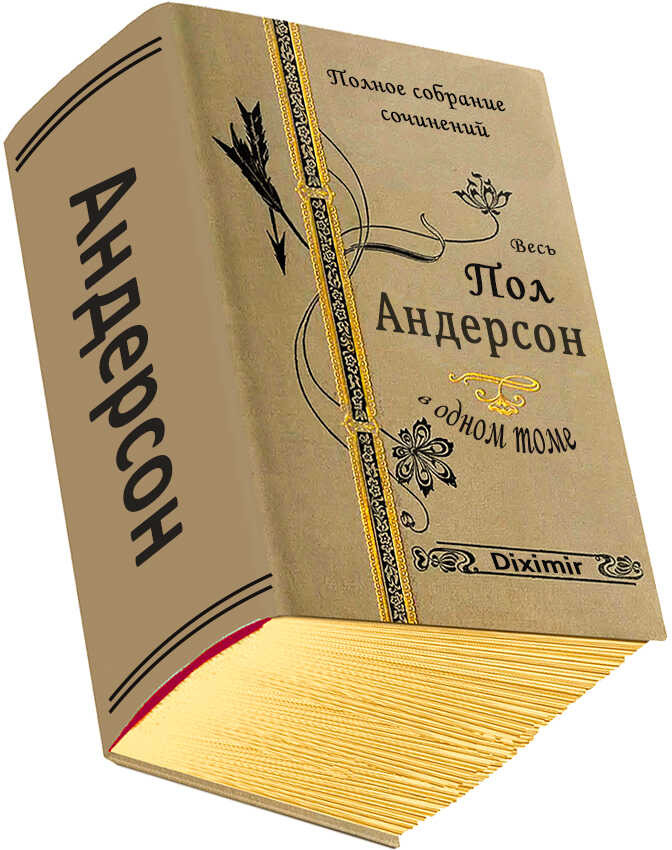Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Рей Фостер - молодой военный, человек идейный и принципиальный. Но ему приходится столкнуться с суровой действительностью которая проверит на прочность его взгляды. В мире, где существуют боевые киборги и люди со сверхспособностями, крупная корпорация стремится к мировому господству, военные и политические конфликты разрывают земной шар, удастся ли герою не утратить человечность и защитить свое хрупкое счастье?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эгиль PainKiller Андерсон»: