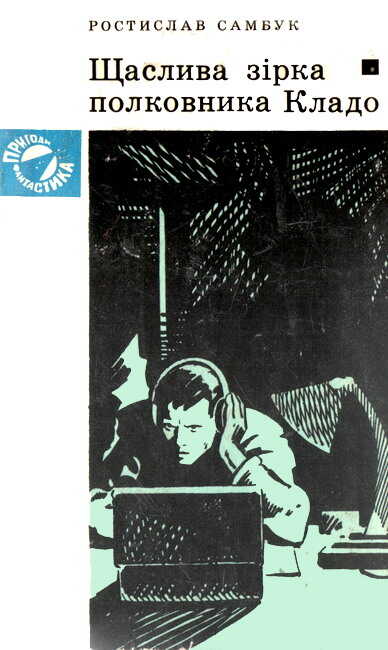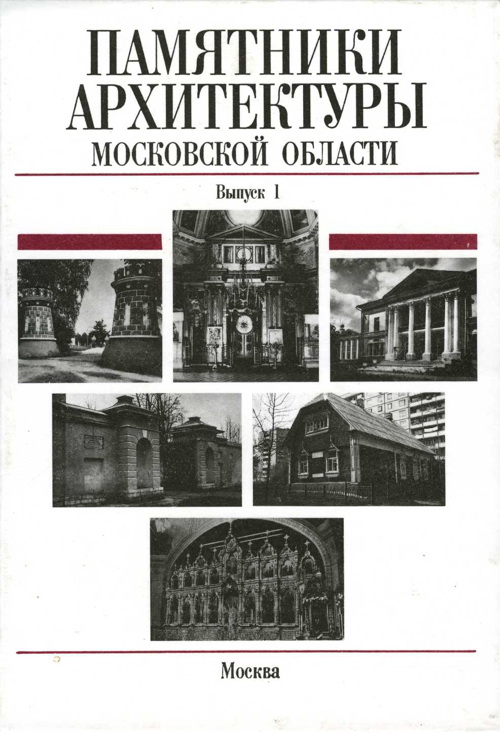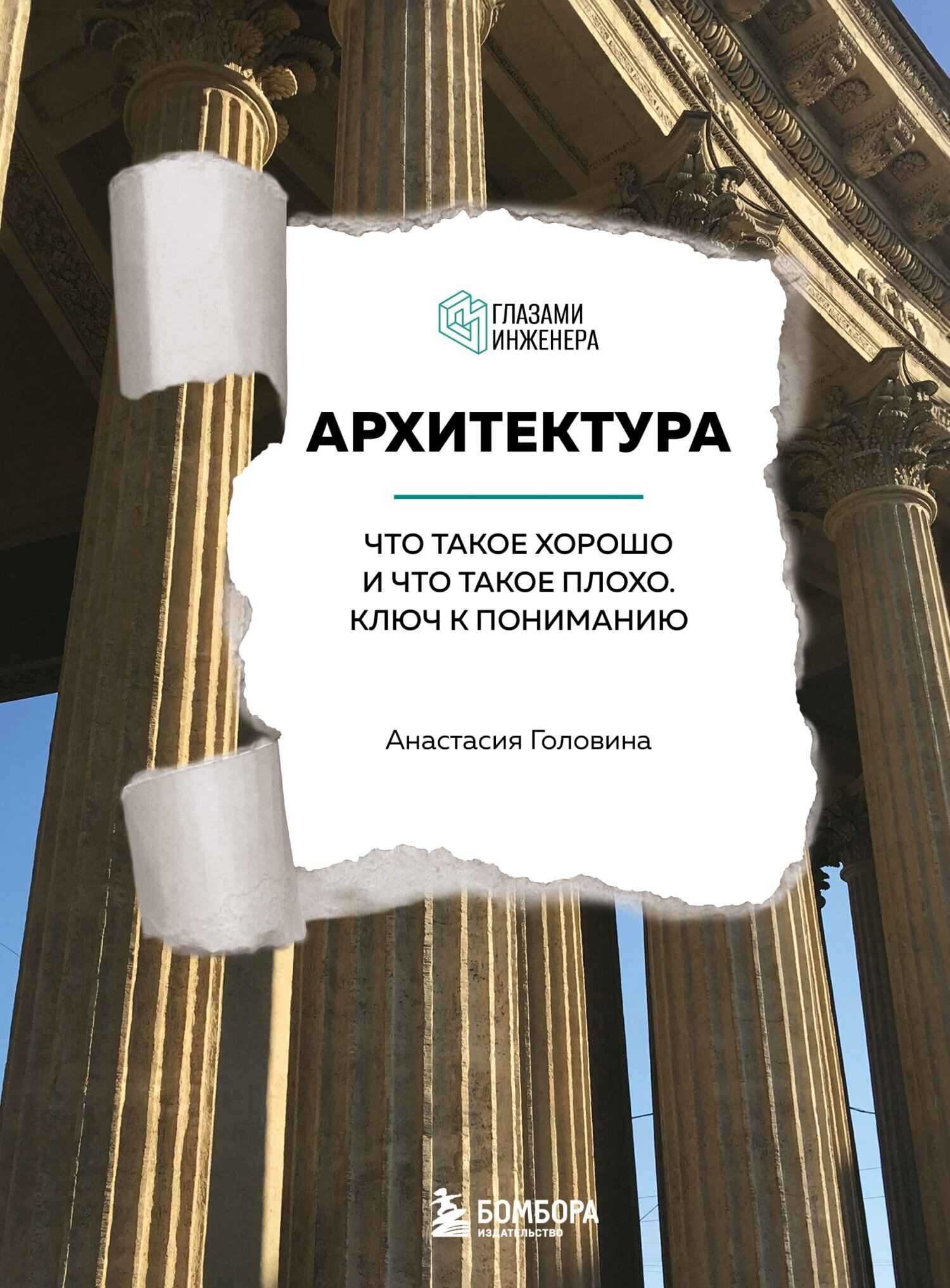Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Гестаповцам удается напасть на след руководителя группы советских разведчиков полковника Кладо… О поединке с хитрым и коварным врагом, победителями из которого выходят советские люди, рассказывает автор в повести «Счастливая звезда полковника Кладо». Рисунки Евгения Котляра
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ростислав Феодосьевич Самбук»: